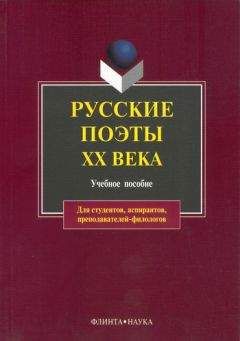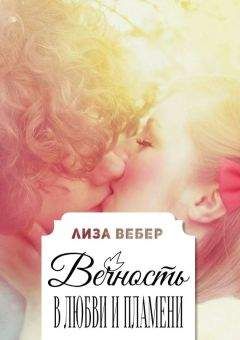Грант Матевосян - Мать едет женить сына
— А у меня образование нулевого класса.
Мы только гости на земле:
Чуть явимся на свет,
Тотчас же скроемся во мгле,
И нам возврата нет.
Мы смерти ждём, ждёт нас она,
Не сладить людям с ней.
Иная участь суждена
Деяниям людей.
— Деяния — что это такое?
— Деяния — это дела.
Собирает войско шах Надир,
Нет воинам числа,
На Тмук он хлынул, как на мир
Полуночная мгла…
«Ты мнишь, Татул, коли ты смел,
То смерти нет тебе?
Чего ж ты в крепости засел?
Гляди в лицо судьбе!»
«Не в меру ты спесив порой, —
Князь шаху говорит. —
Проходят тучи над горой,
А всё гора стоит».
Созвал войска свои Татул,
Построил пред собой,
Вскочил в седло, мечом взмахнул
И устремился в бой.
Идёт Иран, идёт Туран,
Но князь Татул могуч, —
В бою рассеял вражий стан,
Как стаю чёрных туч.8
— Твой полководец-отец прибыл. Будете жить вместе до ста лет.
— А дальше как?
— Длинная очень вещь, времени не хватит всё сказать. Как бы авелук не забыть…
За годом год проносится…
Напрасно день и ночь
Окрестности безлюдные
Оглядывала дочь.
И днём и ночью плакала
Над злой бедой своей;
И превратился в озеро
Горючих слёз ручей.
И крепость скрылась в озере
С царевной молодой,
И люди это озеро
Назвали Парваной.9
Поднимаясь на чердак, она глянула вниз — Симон был возле груши, он тащил за собой лошадь, и ноги его подгибались в коленях, совсем как у мурадовских сыновей. И сил, чтобы сердиться на него, никаких уже не было. Мир был печальный-печальный. И прохудившаяся, с изъеденными листьями груша с единственно зелёной прививкой, и Симон, какой-то весь поменьшавший, и тусклая, без блеска шкура их лошади, и скала эта, которой давно уже пора расколоться надвое, а она не раскалывается, держится зачем-то, — всё это было грустным, печальным до боли.
«Ку-ка-реку…»
Совсем недавно, когда же это было, господи, совсем недавно ещё детьми были, потом девушками, невестами — наполнялись тоскою и ждали — чего? Чего-то хорошего ждали, и от ожидания этого сердца наши разрывались — почему? Петух кричал под окном — говорили: гость придёт. Потом сердца наши устали и больше не бились гулко и тревожно. Ах, гость должен был прийти, гостя ждали, ждали, ждали, и пришёл гость, пришёл — торговец из Касаха на осле, с гранатами и с грязными ногами. А потом была война, мы шли за плугом и плакали, молотили на гумне, тюки тяжёлые на себе тащили, траву косили, волов подковывали, пели песни и плакали и с тоскою ждали — чего? Потрепыхалось и замерло, как зарезанная курица, сердце. Ох, хорошо дремлющим на зелёном кладбище, под каменными плитами.
Там, где зелены склоны,
Ключ плескался студеный…
А дальше? Забыла, как дальше. Ну-ка.
Растекался вокруг,
Заболачивал луг…
А ведь я за это пятёрку получила, но продолжения не помню — отчего это?
Она не откликнулась на голос ребёнка. С авелуком в руках она уселась на лестнице и сказала, качая головой:
— Не еду, нет.
И опять всё было печально в мире, всё, от начала до конца. Да, хорошо тому, у кого невозвратимая потеря есть, кто тоскует, но не может звать, и его никто не позовёт, и он может не корежиться от отвращения и внушать отвращение тоже не может. Хорошо такому.
Путник жаждой томился,
А идти далеко, —
Наклонился, напился,
Стало сердцу легко.10
Одного сына хотели с хорошим голосом, чтоб песни пел, — и то не получилось. Вроде бы не очень многого хотели.
— Отец, а отец, просочиться — не значит разве внутрь пройти?
— Чего, чего?
— Просочиться, говорю, не значит…
Симон сел на пень и принялся стаскивать с ноги сапог.
— Чего? — Симон повернул голову к ребёнку.
— Просочиться не значит внутрь всочиться?
— Наверное.
— Симон!
— Чего тебе, ахчи?
— Симон, поэты почему рано умирают?
— Рано умирают?
— Ну да, говорят, у них в сердце что-то разрывается.
— Ну а до смерти своей живут ведь? Им достаточно.
— Скажешь тоже.
— А что ж мне тебе говорить — хорошо делают, что рано умирают, так, что ли?
— Остроумец, ну остроумец!
— Что тебе надо от меня, ахчи?
— Опоздал почему?
— Пешком шёл.
— От самого Овита? Пешком?
Симон взглянул на неё и промолчал.
— Так тебе и надо… Тебе говорили, на лошади поезжай? В машине захотелось, рядом с шофёром!
Симон снял второй сапог, ноги положил на голенище и пошевелил пальцами ног.
— А ведь ты знал, что я опаздываю, почему не сказал себе, что торопиться надо? Помнишь, как на похороны моей тётки из-за тебя опоздали и не пошли? Помнишь?
— Я думал, и на обратном пути машина попадётся.
— Ах ты думал, значит…
— Туда была машина, я подумал, и обратно будет, а ты ведь знала, что не будет, что ж не сказала мне?
— Я ведь сказала тебе — на лошади поезжай.
— На лошади это я понимаю, а почему про машину, что не будет, не сказала?
— А ты бы дом свой на приличном месте построил… что ж я — должна сидеть тут под скалой и гадать, будет из Овита машина или не будет?
— А мне как было знать, будет или не будет?
— Мозгами бы пошевелил.
— Нету. Этого нету.
— Потому и сидишь в таком состоянии.
— Начала опять! — крикнул Серо.
— Ты ребёнок, ты молчи.
Во дворе младшего сына появилась старуха и стала бормотать то громко, то неразборчиво:
— Извела, вконец извела парня… Да что ж это за беда прямо… Угробит ведь она его, угробит… Что ж тебе от него надо, не хватит тебе, ахчи?..
— Не размахивай там руками, не испугаешь… острословы, конца вам нет, один другого пуще.
— Я в Ереван хочу, я с тобой еду.
— Вот тебе! — Агун грубо, совсем по-мужски сунула под нос ребёнку кукиш, и это уже было сверх всякой меры, это было то, отчего у Симона начинала накаляться голова.
Симон встал, хлопнул сапог оземь, зашвырнул топор в сад, плюнул и ушёл в дом.
Она на секунду смешалась, на секунду, казалось, поняла, что плохое что-то сделала, потом запретила себе быть мягкой и уступчивой.
— Это вы можете, — сказала она в сторону хлопнувшей двери. — Разбивайте, разрушайте всё, пора уже, давно в доме ничего не билось… — Ладно, не будем обращать внимания, надо ещё авелук пристроить, а потом можно начать седлать лошадь, пусть этому, в доме, станет стыдно. Не забыть бы большую клетчатую шаль. На руках будут две пятёрки, одна трёшка, одна рублёвка, достаточно. — Серо, — спросила она задумчиво, — две пятёрки, одна трёшка и одна рублёвка — сколько будет?
Но Серо не было. Серо плакал в хлеву. Когда она подошла к нему, он ухватился за балку, а когда она потянула его к себе, Серо лёг на землю и стал бить ногами по земле.
— Так вот и защищайте его, отца своего. От всяких извергов, — и она, вся полная слёз и ярости, вернулась к своим узлам. Значит, так, рублёвка — шофёру, билет на поезд стоит три рубля семьдесят копеек, — трёшки на билет мало будет, пятёрки — много, надо, чтобы всё было заранее продумано, пятёрки неприкосновенные, шофёр должен вернуть пятьдесят копеек, поскольку билет на машину стоит пятьдесят копеек, так сдача шофёра вместе с трёшкой — вот тебе и билет на поезд. Нет, вроде бы не так. — Серо… старыми деньгами билет на поезд стоил тридцать семь рублей пятьдесят копеек. Старая десятка теперь рубль. Значит, сколько сейчас стоит билет? — Мой отец Ишхан и моя мачеха ругались и обедали одновременно, а эти нежные, этим хлеб в горло не полезет, если кто-то что-то не так сказал. Ах, что эти умеют — ничего не умеют, ни ругаться, ни хлеб по-человечески есть. — Серо, слышишь меня?.. Вот уеду в Ереван и не вернусь больше.
— И не надо.
— Не вернусь, останусь у Армена.
— Оставайся.
— Вот и Арменак так говорил, а теперь, когда корзины и мешки с едой получает, — ничего, доволен, кажется. Ну ладно, не время ссориться, вставай с земли, подымайся.
— Приказывает ещё!
— Если кусочек гаты дам — помиришься со мной?
— Ешь свою гату сама.
— Вставай, тебе говорят!
Снова залаяла их собака, и мигом откликнулась ей Адамова собака, и снова заворчала во дворе младшего сына старуха.
Агун поглядела в ту сторону и сказала себе, что она герой, потому что не отвечает старухе. А не отвечает, потому что у неё дом есть, дело неотложное есть, потому что некогда.