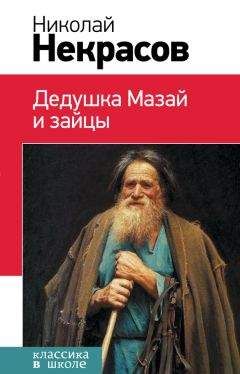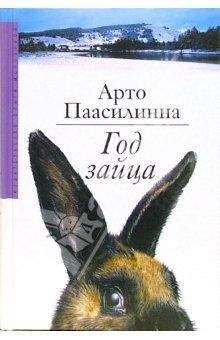Анатолий Алексин - Сага о Певзнерах
– Какая разница – Певзнер или Абрамович? – говорил он. – Для антисемитов – это одно и то же. И для меня, как ни странно!
По этой причине он обменял одну из семи комнат коммунальной квартиры на одну из девяти комнат другой коммунальной квартиры. Но зато на нашей улице.
А вернувшись с войны раньше отца, он, лишенный правой руки, взял в руки, как тогда говорили, «заботу о семье фронтовика», состоявшую из одной нашей будущей мамы. Она ждала мужа, глубоко запрятав страх и отчаяние. Сокрытая же взрывчатка гораздо опаснее той, которая на поверхности, видна и поддается контролю.
Через многие десятилетия – не могу вновь не вспомнить – я скажу умирающему Анекдоту:
– Абрам Абрамович, я не хочу прощаться… Вы не должны уходить… Вы так любите жизнь!
– Я любил вашу маму, – ответит мне он.
Сквозь страдания его, которые я угадаю, в глаза Абрама Абрамовича все же пробьется юмор, перемешанный с грустью.
– Есть такой анекдот…
Его голос ослабеет, но не утратит иронии.
Анекдот застынет у него на губах и в его глазах. В них застынут смех и печаль. Взгляд будет не мертвым – он будет остановившимся, но живым.
Или, может, мне все это покажется?
Когда прозвучало обманчиво плавное слово «депортация», будто имевшее отношение не к высылке людей, а к какому-то романтичному «порту», Абрам Абрамович сразу же припомнил анекдот. Но рассказал его хмуро, без юмористической интонации: «Вы знали Рабиновича, который жил напротив тюрьмы? Так теперь он живет напротив своего дома».
Абрам Абрамович имел в виду не только нашу улицу, а все улицы и дома.
– Мне кажется, – продолжил Анекдот совсем уж не в анекдотической форме, – никогда еще… или почти никогда люди не предлагали подвергнуть пытке самих себя, или расстрелять себя, или казнить. А вы, Борис, попросили. Потому что вас попросили… Что ж, надо собираться в дорогу.
Мама плакала очень редко. И лишь от обиды. Из-за боли она не плакала. И никогда не молила о помощи. Даже когда мы с братом и сестрой, уступая, как уверял Анекдот, дорогу один другому, трое суток не являлись на свет.
Отец, я был уверен, плакать вообще не умел.
И вдруг в одно и то же утро мама уткнулась головой в диванный валик, а отец глухо закрыл руками лицо. Плечи их содрогались – неритмично, бесконтрольно. Я угадал, что они рыдают. Хотя никаких надрывных звуков не было. Они отчаивались молча, и это так меня потрясло, что я тоже заплакал.
До этого, в течение нескольких дней, мама и отец ждали. Затаенно и судорожно.
– Надо бы с ужасом ждать того часа, когда все мы – и ваши дети, поймите: и ваши дети! – должны будем погрузиться, как ненужный вредный товар, в холодные теплушки, слепые, без окон, на каких-нибудь тайных подъездных путях, – сказал Анекдот. – Ждать, как мы сами послушно, словно рабы третьего рейха, явимся для отправки на вечную ссылку. По твоей просьбе, Борис… А вы чего ждете? Отчего напряглись? Оттого, что заболел тот, который решил вас сослать? Но это ведь запредельная степень холопства!
Ничего подобного еще не бывало: Анекдот осуждал открыто и маму.
Но мама и отец его не услышали. Все их чувства и мысли уперлись в плотину ожидания.
– Плакать нужно было в тот день, когда Сталин родился, а потом причалил с кастетом и дубиной к каждому порогу каждого дома. Плакать же, когда он отчаливает? Что ж, значит, и другой может поступать с нами так, как поступал он.
Раньше Анекдот называл Сталина, как правило, Иосифом Виссарионовичем. В этом была насмешка. Но в тот час от шуток он был далек.
Мама и отец вновь его не услышали.
– В тридцать седьмом году был в ходу такой анекдот, – начал внезапно Абрам Абрамович.
– Сейчас не время для юмора, – думаю, впервые перебил, как обрезал его, отец.
– Ну почему же? Анекдотичность происходящего как раз соответствует… Одним словом, в незабываемом тридцать седьмом говорили: «Наш дом похож на автобус: половина сидит, а половина трясется». Из тех, кто сидел, почти никого не осталось. А те, которые тряслись, или их потомки сегодня рыдают, скорбят и, согбенные от горя, пойдут на похороны. Или в том числе и они.
– Вся наша семья будет с ним прощаться. И дети пойдут, – как фронтовой приказ, не подлежащий отмене, произнес отец.
– Это тот единственный случай, когда я не буду с вашей семьей. Ни буквально, ни в помыслах, – без вызова, а скорее печально произнес Анекдот. Он не осуждал отца и всех остальных – он их жалел.
А потом наступил день прощания. И мы впятером отправились в Колонный зал Дома Союзов. Путь пролегал через крутой спуск к Трубной площади и далее – по Бульварному кольцу, к Пушкинской улице.
– Пушкина так не хоронили, – произнес отец без осуждения этого факта, а как бы ставя вождя поэту в пример.
– Пушкина вообще, Боренька, вывезли из города ночью и тайно, – ни с того ни с сего уточнила мама.
Многое в те дни происходило в первый раз. Впервые умер Сталин… Впервые Абрам Абрамович откололся от нашей семьи. На время, но откололся… Впервые при нас, детях, мама пусть косвенно, не в упор, но возразила отцу.
Мы стали двигаться по узкому спуску, зажатому между домами и чугунной решеткой Рождественского бульвара. В непроницаемо тесном людском потоке мы перемещались как бы не сами – неостановимая масса людских тел, ожесточенно напиравших друг на друга, проталкивалась все дальше вниз, к Трубной площади. А потом движение закупорилось – и площадь неожиданно стала целью, достичь которую с каждой секундой становилось все невозможнее.
Крутой спуск был необычен для города, отличавшегося равнинным, а не гористым южным ландшафтом. Или природа пожелала напомнить нам, что мы хоронили горца? Сперва его смерть объединила тех, которые без какого-либо призыва или приказа собрались вместе. И стиснули от горя не только зубы, но и свои ряды. Впрочем, зубы стиснули лишь фанатично мужественные, а другие омывали горем свои лица, обильно смачивали им пальцы, платки. Люди не могли представить себе, что бессмертный скончался. И так обыкновенно: какой-то сосудик в мозгу оказался сильней его власти над всем и над всеми. Над всеми, кроме того сосудика… Огнепоклоннический трепет перед вождем требовал от людей убедиться, узреть собственными глазами, что они лишились главной своей опоры, защиты, гарантии небывало мощного и лучезарного будущего, в которое верили беззаветно.
Возник вроде бы коллектив совместно страдающих… По-разному, но совместно. И вдруг громоподобно-неожиданная опасность оглушила людей криками, свинцово сковала их движения – и разрушила коллектив общей скорби. Каждый устремился к собственному, индивидуальному спасению. Но устремился лишь мысленно, потому что и шевельнуться, как хотелось, не мог.
– Не расцепляйте рук! Не расцепляйте!.. – уверенно, возвращая нам надежду, повторял отец. Это тоже было приказом, выполнение которого обещало спасение.
Поток людей, сползавший вниз медленно и тяжело, как лава по телу вулкана, сковывала зажатость между домами и чугунной решеткой, но и страх, все определеннее перераставший в ужас.
– Не расцепляйте рук! – повторял отец.
И мы до нестерпимости сжимали друг другу пальцы.
Отец, как на войне, выработал какой-то тактический план, который мог оказаться стратегическим для всей нашей дальнейшей жизни. Он вытягивал нас из эпицентра человеческого скопления, где между людьми не было уже ни малейшего расстояния, все ближе и ближе к домам. Мы по миллиметрам вытаскивались отцом из каменной слитности тел, которая способна была сплющить, раздавить, уничтожить.
– Дашенька, держись. Держись, Дашенька… – просила мама сестру. Но я понимал, что это относилось и ко всем нам.
Из потока по-прежнему с нараставшим отчаянием пытались вырваться не только руки, ноги, плечи, но и голоса:
– Помогите! Спасите!..
Кто мог в этом скованном бессилии помочь кому-нибудь и себе самому?
Но нам помогал отец. И он вытягивал нас к воротам громоздкого, равнодушно недвижного старинного здания. Все ближе, все ближе…
Мне стало ясно, совсем ясно, за что мама полюбила отца. И почему была такой послушной ему.
Мы незаметно, но все же протискивались вслед за отцом по невидимому пространству, которое было единственной дорогой надежды. Отец выполнял задачу невыполнимую. Кто-то внезапно уперся коленом мне в пах, непереносимая боль приказывала опуститься, присесть на корточки. Но я мог двигаться только вбок – к воротам, к воротам… Туда с маниакальной, сумасшедшей решимостью тащил нас отец. Он вытягивал нас из беды, которая могла оказаться нашей последней бедой. А прижатость к чужим телам вот-вот могла стать прижатостью к смерти.
Я подумал, что многие люди, наверное, не сдавлены, а уже раздавлены, мертвы, но не в состоянии обнаружить свою гибель, не могут упасть, потому что стиснуты живыми телами. Или живыми и мертвыми.