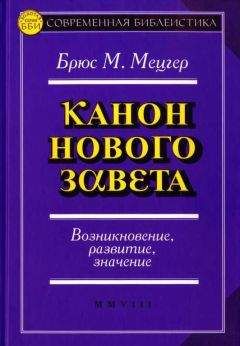Юрий Карабчиевский - Воскресение Маяковского
Он дал этой власти дар речи.
Не старая улица, а новая власть так бы и корчилась безъязыкая, не будь у нее Маяковского. С ним, еще долго об этом не зная, она получила в свое владение именно то, чего ей не хватало: величайшего мастера словесной поверхности, гения словесной формулы.
"Точка пули", "хрестоматийный глянец", "наступал на горло", "о времени и о себе"... Это ведь в языке останется, хотим мы того или нет. Но и язык партячеек и комсобраний, и ужас декретов, и бессмыслица лозунгов - с такой готовностью были им восприняты и с таким талантом преобразованы, что стали почти афоризмом, почти искусством. На все случаи советской жизни он создал пословицу-пустословицу, поразительно соответствующую этой жизни - не как поэтическая характеристика, но как обобщенная словесная формула, составленная из той же материи. Отныне любой председатель, любой секретарь сможет оживить свою речь цитатой: "Как сказал поэт..." И, казалось бы, дальше все та же жвачка, та же бессмыслица - но так искусно организованная, что как бы и смысл, и чувство, и строй души...
Нет, ни за плату, ни по принуждению такого совершить нельзя. Это так случилось, что выгода в основном совпадала,- как иначе, если служишь власти и силе? - но сама служба не была выбором, а единственно возможным способом жизни.
Он чувствовал двусмысленность своего положения, тому свидетельством множество оправдательных слов: "Не по службе, а по душе", "Вот этой строкой, никогда не бывшею в найме"... Он выстраивает сложные сооружения, чтобы объяснить себе и читателю кажущуюся принужденность своего пути.
И мне агитпроп в зубах навяз, и мне бы строчить романсы на вас доходней оно и прелестней.
Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне.
В этих крылатых итоговых строчках - двойная неправда. Агитпроп, конечно же, был доходней. Александр Блок, всю жизнь "строчивший романсы", записал у себя в дневнике незадолго до смерти: "Научиться читать "Двенадцать". Стать поэтом-куплетистом. Можно деньги и ордера иметь всегда". То есть, иными словами - стать Маяковским...
Но и "себя смирял" - тоже неправда. Это запоздалая рассудочная формула, обобщенный ответ на упреки читателей и собственную ностальгию по юности. Ведь если наступал на горло собственной песне, то, значит, пел не свою, чужую! Этого Маяковский сказать не хотел, он так не считал, и этого не было. Велик соблазн ухватиться за эту нить, но она заведет нас в тупик, не стоит. Слишком много личной заинтересованности, да попросту слишком много таланта - для того, чтобы эти песни были навязаны кем угодно, пусть даже самим собой. И не верность идее в нем поражает, а именно соответствие ей. Было много талантливых людей, воспринявших идею как благо, но все они против собственного желания изменяли ей в своем творчестве. Таковы уж свойства живой души, она не может ужиться с мертвой догмой, и чем более человек талантлив, тем больше проявляется противоречие. Бабель, Заболоцкий, Багрицкий, Платонов, Зощенко... Можно продолжить. Пастернак тоже бы хотел, как Маяковский, и время от времени пробовал. Выходило ходульно и неестественно, он выдавал себя в каждой строфе.
Слишком много в нем было живой, отдельной души, слишком много было Пастернака.
В Маяковском же - Маяковского не было, вот и вся страшная тайна. Пустота, сгущенная до размеров души, до плотности личности - вот Маяковский.
Милостивые государи!
Заштопайте мне душу - пустота сочиться не могла бы.
За двенадцать лет советской власти Маяковский написал вдесятеро больше, чем за пять предреволюционных лет. Он был не просто советским поэтом, он в любой данный момент был поэтической формулой советского быта, внешних и внутренних установок, текущей тактики и политики. И однако же то главное дело, которое он ставил себе в заслугу, не было выполнено, не было даже начато. Время свое он не отразил и не выразил.
В 40-50-е годы мы страстно читали его стихи, знали наизусть половину поэм, но что мы знали о времени? Это теперь мы можем дополнить его строки тем фоном, тем подлинным вкусом и запахом времени, который нам сообщили другие.
Время выражается только через личность, только через субъективное восприятие.
Объективного времени нет. Маяковский же... Странно произнести. Между тем это очевидная истина. Маяковский личностью не был. Он не был личностью воспринимающей, он был личностью оформляющей, демонстрирующей, выдающей вовне, на-гора:
Я себя советским чувствую заводом, вырабатывающим счастье.
Вообще наше представление о нем как о личности складывается из чисто внешних черт: рост, лоб, глаза, челюсть, взмах руки и громовой голос. Он не был, но он выглядел личностью, и гораздо более яркой, чем личность. Обратим внимание на простую вещь: читая стихи, мы ведь постоянно это все представляем, да он и напоминает нам время от времени. А читая любого другого поэта, до или после?
Нет, конечно же, нет. Там мы можем лишь отдельно припомнить внешность автора, но, читая, слышим скорее себя, и это тем верней, чем субъективней стихи. Суть поэзии - личностное восприятие, слововыражение от него неотрывно, но оно несет подчиненную функцию. Очевидно, что поэзии нет без слова, но качество слова, его адекватность и даже само его вещество существует лишь в отношении к восприятию - первичному, личностному, субъективному...
Маяковский - весь - вне этих категорий. Сам он это о себе хорошо знал и вполне сознательно декларировал:
Поэзия - это сиди и над розой ной...
Для меня невыносима мысль, что роза выдумана не мной.
Я 28 лет отращиваю мозг не для обнюхивания, а для изобретения роз.
Он не был поэтом воспринимающим, он был поэтом изобретающим. То, что он сделал,- беспрецедентно, но все это - только в активной области, в сфере придумывания и обработки. Все его розы - изобретенные. Он ничего не понял в реальном мире, ничего не ощутил впервые.
Есть большой соблазн сказать (и говорят), что он расширил границы поэзии. Это, конечно, не так. Поэзия осталась там, где была, но он расширил сферу действий поэта, включив в нее собственно границы поэзии и еще многое за их пределами.
Этому постоянному соотношению: граница - и то, что вне ее,- мы и обязаны потоку пустых версификаций, которыми на 4/5 заполнены тома его произведений. Он и в этом, как и во многом другом, уникален, и если уникальность есть мера гениальности, то прибавим сюда и это обстоятельство.
Он уникален и неподражаем, и печать его неповторимой личности - той самой спрессованной пустоты - несут даже графоманские строки. Но и самые лучшие, самые личные - не несут ничего иного. Вот, казалось бы, крик, идущий из сердца:
Я где боль,- везде!
Нет сомнений, это сказал Маяковский, никто не мог бы, кроме него. Но эта строчка ровным счетом ничего не значит. Ни контекст поэмы, ни общий контекст Маяковского не дают оснований предполагать, что он чувствует какую-то боль кроме собственной. И даже независимо от контекста любая форма такого утверждения: я сострадающий, я сердобольный - работает против его содержания и не может быть воспринята всерьез. Это формула, выведенная не из собственных ощущений, а из общего, усредненного восприятия. Он подтвердил это лет через десять, подставив в нее другие координаты:
где пошлость,- везде!
Здесь в точности та же самая фигура используется уже в противоположном смысле, не в страдательном, а в винительном, точнее - в карательном. Что ж, можно и так.
Но теперь она звучит уж совсем двусмысленно, и трудно удержаться от пародийного вывода: был везде, где боль, стал везде, где пошлость... Не стоит придавать ему серьезное значение. Маяковский и в прошлом послужил пошлости, но и в будущем достаточно мучился собственной болью.
Эта боль называлась, быть может, не очень красиво: боль детской обиды, уязвленного тщеславия,- но она болела достаточно сильно, мы это знаем. Здесь прокол в его душевной пустоте, именно здесь она и сочится. Маленький уголок души, где гнездятся боль и обида,- вот и все живое в большом Маяковском, остальное- только пустое пространство, заполненное внешней энергией. Но и это тоже не мало. Это то, что с ним примиряет, что делает возможным разговор с ним и о нем. Душевная боль всегда человечна, жалоба всегда духовна. Жалоба на душевную боль, в конечном счете, всегда молитва, потому что кто же может помочь, как не Бог?
Тело твое просто прошу, как просят христиане - "хлеб наш насущный даждь нам днесь".
Здесь цитирование прямого адреса - лишь смущенное прикрытие прямого адреса.
3 Вот что исчезло из стихов Маяковского после революции - жалоба. И с нею всякая возможность духовности. Только два-три раза возникают какие-то всплески, но они тонут в море коллективной пошлости, заполняющей теперь все свободное пространство его души, всю ее воспринимающую пустоту. Обобщенный, мертворожденный словарь позволяет лишь угадывать нечто живое и личное. Он и прежде питался общественным восприятием, но тогда оно не было столь однозначным, в нем было много степеней свободы, и какое-то из направлений движения могло совпасть с подлинным личным мотивом.