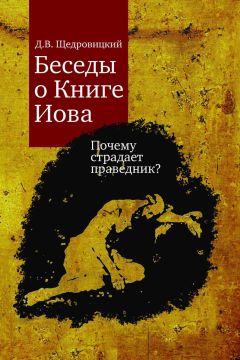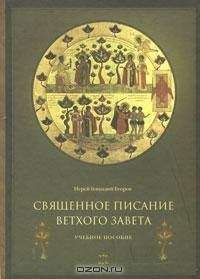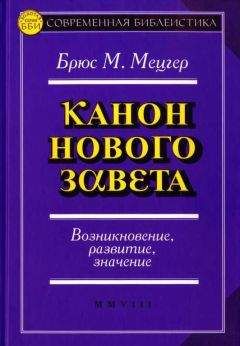Юрий Карабчиевский - Воскресение Маяковского
Подсознательный. А каков сознательный?
"Протиснувшись... раструба трубки разинув... погромом громя..." Три деепричастия на один глагол. И на каждом - по нескольку косвенных падежей. Да два родительных, один на другом... Эти построения не случайны, все они функционально оправданы и выполнены очень искусно. Однако правильное их прочтение невозможно без обратной грамматической раскрутки. Стих сам не ложится на слух, он требует синтаксической расшифровки, выяснения всех иерархий и связей, только тогда он может быть узнан. Значит, опять механическая работа, предшествующая чувственному восприятию. Эта задача может быть предельно простой, решаться в два или даже в одно действие, но она всегда присутствует в стихах Маяковского.
Неверно, что Маяковский ломает синтаксис, напротив, он его очень аккуратно использует. Структура фразы в своей основе остается у него незыблемой. Нельзя же считать разрушением синтаксиса пропуск очевидного члена предложения или широкое использование инверсии. Маяковский скрупулезно соблюдает грамматику, как иначе мог бы он опять и опять собирать вместе все свои дополнения и деепричастные обороты? Каждое чтение его стихов - это грамматический разбор предложения - именно отсюда и возникает первая усталость при чтении.
Во все концы, чтоб скорее вызлить смерть, взбурлив людей крышам вровень, сердец столиц тысячесильные Дизели вогнали вагоны зараженной крови.
Можно ли воспринять эту строфу непосредственно, без грамматического разбора?
Абсолютно исключено. Движение нашей мысли - именно мысли, не чувства сразу же после чернового прочтения должно происходить в обратном порядке, от последней строчки до первой, то и дело петляя назад, то есть вперед, в поисках правильных подчинений. "Дизели вогнали вагоны". Ладно. Затем непременный родительный падеж, да еще двойной. "Сердец столиц". Кто же кого? Дизели столиц? Тогда что - сердец? Нет, дизели сердец, а уж сердца -столиц. Дальше идет деепричастный оборот, навешенный все на те же сердец дизели, причем эпитет "тысячесильные" их не укрепляет, а ослабляет, удаляя от подчиненных слов. И все это - "чтоб скорее вызлить смерть". Это надо будет особо иметь в виду при последнем, чистовом прочтении, потому что рифмуется слово "вызлить", после него так и просится запятая, а "смерть" ритмически тяготеет к следующей строке и оспаривает у дизелей право бурлить людей...
Итак, все грамматические связи как будто выявлены, теперь, ни на минуту о них не забывая, мы можем снова прочесть стих целиком. Но - поздно, слишком поздно, чуть-чуть бы раньше. Уже нарушена непрерывность движения, утрачена непосредственность восприятия, растрачены силы - и не на то, не на то... Вообще прерывность движения, разрывность мысли характернейшее качество стихов Маяковского. Не только слова в отдельной строке, но и любые другие элементы стиха сцеплены не смысловым и не образным единством, а внешним по отношению к стиху током энергии. Стих Маяковского в принципе фрагментарен. Он всегда состоит из отдельных строф, порой изолированных друг от друга, а чаще всего и сама строфа строится по фрагментарно-частушечному принципу. Вот, к примеру, одна из лучших:
А там, где тундрой мир вылинял, где с северным ветром ведет река торги,- на цепь нацарапаю имя Лилино и цепь исцелую во мраке каторги.
Здесь совершенно очевидно, что две последние строчки - основные, а две предыдущие - вспомогательные и были сочинены во вторую очередь.
И дело тут не только в том, что в последних выражено главное действие, а в первых - его условие. Дело в том, как они все написаны. Понятно, что если в конце строки стоит имя собственное, то рифма, как правило, подбирается под него, а не наоборот. Но как раз "тундрой мир вылинял" не вызывает особого протеста.
Зато "ведет река торги" - образ надуманный, и единственное его назначение - рифмоваться с каторгой. И опять здесь требуется повторное чтение, коррекция, на сей раз - интонационная, потому что сначала мы читаем "река торги" - два отдельных слова с двумя ударениями и даже раздвигаем их принудительной паузой, а уж потом, дойдя до конца строфы, обнаруживаем, что это составная рифма, возвращаемся и прочитываем верно: "рекаторги".
Или даже чуть-чуть иначе. Искусственность двух слов, должных составлять одно, сразу же нас настораживает, мы подозреваем, для чего это сделано, и осторожно несем эту составную игрушку до конца строфы, хотя еще и не очень уверены, что это вообще следует делать. Наконец, версия подтверждается, мы возвращаемся, читаем слитно (при этом строчка теряет существенную часть своего и без того зыбкого смысла) и затем перечитываем все сначала...
Разумеется, вся эта логическая работа происходит гораздо быстрее, чем здесь описано, с большей долей участия интуиции и чувства грамматики, но именно грамматики, а не слова и смысла., Окончательно расшифровав и уточнив строфу, мы можем восхититься искусством автора, но это восхищение чуждо катарсиса: красота изделия, эстетика вещи...
3 Любопытно, что сам Маяковский выше всего ценил в своем мастерстве то, что дальше всего отстоит от поэзии: способность изобретать, конструировать, делать, и никак не выделял те редкие моменты, когда ему удавалось приблизиться к внутренней сути.
"Наиболее примитивный способ делания образа - это сравнение" ("Как делать стихи"). Между тем из всех поэтических тропов именно сравнение удается ему лучше всего, в том смысле, что образ, построенный на сравнении, хотя и не выходит за рамки наглядности, имеет все же наибольшую ассоциативную емкость:
Упал двенадцатый час, как с плахи голова казненного.
И есть определенный класс метафор, родственных сравнению, произведенных от него, но порой ушедших так далеко, что это родство едва заметно. Я имею в виду метафоры, построенные на падежных согласованиях" в основном на родительном и творительном.
"В погоне угроз паруса распластал", вместо "угрозы-как паруса". Это снова грамматическое построение, но в нем Маяковский достигает предельной точности:
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка.
Однако и здесь конструктивность, формальность мышления приводит к многочисленным срывам и сбоям. Прямые сравнения то каламбурно плоски ("Лежит себе, сыт, как Сытин"), то построены на столь далеких друг от друга понятиях, что их сближение невозможно без специальной рассудочной работы. А тогда и сильная падежная метафора выступает уже не как способ видения, а как хитрая изобретательская уловка. Выигрыш в том, что здесь сравнение не стоит под прямым вопросом читателя: "Так ли - не так ли?", а становится грамматическим свойством предмета, как бы заведомо органическим. Несомненная и твердая правда синтаксиса выдает себя за правду образа.
Вы прибоя смеха мглистый вал заметили за тоски хоботом?
Здесь двойная или даже тройная стена родительных падежей, и кому захочется ее расковыривать? Со временем и этот прием становится все суше, все умозрительней:
Это - он.
Я узнаю его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.
Грамматика уже почти не прикрывает смыслового неприличия, и не надо ни родительный, ни предложный падеж возвращать в именительный, чтоб увидеть искусственность всей конструкции. Если даже принять, что спасательные круги парохода действительно напоминают очки товарища Нетте, то есть что их на пароходе два, а не больше, и что расположены они как раз где надо, с учетом поэтического антропоморфизма,- все равно ни круги, ни очки не похожи на блюдечки, уж тут ничего не поделать. Изначальная конструктивная установка:
"чтобы, умирая, воплотиться в пароходы..." - потребовала такого именно образа, и он был выстроен - именно такой*.
Фрагментарность, дробимость всего его творчества приводит к тому, что чем мельче дробление, тем убедительней и неуязвимей часть. Отрывок всегда лучше поэмы, строчка всегда сильнее стиха. И как неразложимая целостность мира чужда и враждебна его восприятию, так и в творчестве его необходимость построения целого ощущается как тяжкая повинность, как труд, навязанный извне, нежеланный.
Маяковский лучше всего - в короткой цитате, когда нет этого объединительного усилия. Но контекст все же остается контекстом. Ни один поэтический элемент не может существовать вне общей системы. Яркая строчка, сильный и точный эпитет порой приближают Маяковского к самой границе его замкнутого мира, но выйти за пределы ему не дано. "Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу! Рухнули. Не выскочишь из сердца!" Зато это тщетное усилие выскочить ощущается тем явственней, чем лучше стих.
Не удивительно, что на таком напряжении он смог продержаться недолго. Две его первые, лучшие поэмы движутся почти на непрерывном подъеме, и спады (во "Флейте"
более частые) еще вполне перекрываются силовым полем вершин. "Человек" уже гораздо слабее, а "Война и мир" - откровенная конструкция, предшественница будущих агитпоэм. В отдельных стихах он также все более в последние предреволюционные годы склоняется к демагогии и дидактике, от длинных морализирующих гимнов до скучнейших нападок на братьев писателей.