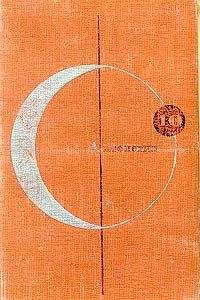Александр Янов - Россия и Европа- т.2
С другой стороны, и вопроса не следует задавать, найдете ли вы что-нибудь подобное у людей александровской эпохи. У Никиты ли
Там же, с. 6-у.
Муравьева, озабоченного конституцией, у Александра ли Тургенева, озабоченного крестьянским рабством, даже у Карамзина, озабоченного, между прочим, судьбою самодержавия. Я уже не говорю о Чаадаеве, его просто пугала эта «наполеоновская» спесь. Да и в наши дни читать страшновато. Вот послушайте:
«Русский Государь теперь ближе Карла Vи Наполеона кихмечте об универсальной империи. Да, будущая судьба мира зависит от России. Какая блистательная слава!.. Россия стоит безмолвная, спокойная, а её трепещут, строят ей ковы, суетятся около неё. Она может всё — чего же более?»*3
Глава шестая Ромдоние
наполеоновского комплекса
ненавистей» несмотря, од
нако, на все его воинственные деклара-
ции, что «судьба мира в наших руках» и «нет ничего невозможного для русского Государя», включая «даже прошедшее изворотить по своему произволу», совершенно очевидно, что никакой определенный внешнеполитический сценарий в уме Погодина в конце 1830-х еще не сложился. И хотя будущие очертания «православно-славян- ского» проекта уже угадываются в замечаниях по поводу того, что «одно слово — целая империя не существует, одно слово — стерта с лица земли другая», и тогдашний читатель прекрасно понимал, какие именно империи предназначены были на заклание, четкой стратегической программы во всем этом еще нет. Разве что ремарка насчет «освобождения Иерусалима» напоминает о грядущем повороте русской политики.
Но зато вполне определенный внешнеполитический сценарий сложился примерно в это же время — и совершенно независимо от Погодина — в уме другого идеолога имперской экспан- в сии России. И одно уже то обстоятельство, что в умах двух совершенно непохожих и даже незнакомых между собою в ту пору людей одновременно начинает маячить мысль о неком принципиально новом направлении российской внешней политики, говорит нам о многом. Во всяком случае о нараставшем в обществе беспокойстве, что Россия не использует своё «наполеоновское» могущество для того, чтобы реально перекроить геополитическую картину мира. Согласие Николая, в особенности после гамбита начала 1840-х, маршировать в общем европейском строю тревожило многих. Тревожило, правда, по-разному. Если Погодин просто недоумевал, почему Россия всё медлит сказать свое магическое, стирающее с лица земли чужие империи «слово», то Тютчев, знавший ситуацию в Европе из первых рук, переживал ситуацию совсем иначе.
Его беспокоило, что под гладкой поверхностью дружеских отношений с континентальными правительствами бушевало яростное море ненависти к России. Что «то государство, которое великое поколение 1813 года приветствовало с благодарным восторгом... удалось преобразовать в чудовище для большинства людей нашего времени... в какого-то людоеда XIX века».44 Пафос николаевского переворота совпал для Тютчева с идеями, среди которых он вырос в Мюнхене, тогдашнем центре европейской реакции, и объяснить этот грозный перелом в европейском общественном мнении казалось ему совершенно необходимым. (Читатель, я думаю, знает, что он начал свою дипломатическую карьеру в Баварии двадцатилетним юношей и прожил там два десятилетия.)
Разумеется, винил он в этом переломе, как было тогда модно и в Петербурге и в Мюнхене, «силы разрушения» или «стремление к разрушению», как он попеременно называл революцию.45 Силы эти уходили корнями, по его мнению, в средневековую историю западной цивилизации, живым воплощением их была для него Франция. Естественно, что последний советский биограф Тютчева, уже известный нам В.В. Кожинов, очень переживал как бы цензура не увидела в его герое «непримиримого противника революции как таковой». И поэтому он терпеливо объяснял, что Тютчев, собственно, восставал лишь «против сугубо буржуазного содержания революций 1789 и 1848 годов». Правда, вынужден был добавить Кожинов, «поэт почти не употребляет самого этого
Ф.И. Тютчев. Политические статьи, Париж, 1976, с. и.
«Русская идея», с. 96.
слова „буржуазный",» но конечно же, имел в виду именно «квинтэссенцию буржуазности ».46
В доказательство приводит он несколько цитат из Тютчева, свидетельствующих о глубоком презрении поэта к самим основам современного мировоззрения, но, к несчастью для биографа, никак не подтверждающих его «антибуржуазность». Для нас эти цитаты важны, однако. Как потому, что объясняют самую глубокую суть политической философии Федора Ивановича, так и потому, что подчеркивают, насколько отличалась она от философии Погодина.«Революция, — писал Тютчев, — если рассматривать её с точки зрения самого её существенного, самого первичного принципа, есть чистейший продукт того, что принято называть цивилизацией Запада. Это современная мысль во всей своей цельности... Мысль эта такова: человек в конечном счете зависит только от себя самого... Всякая власть исходит от человека; всякая власть, ссылающаяся на высокое законное право по отношению к человеку, является лишь иллюзией. Словом, это апофеоз человеческого я в самом буквальном смысле этого слова. Таково для тех, кому оно известно, кредо революционной школы; но, говоря серьезно, разве у западного общества, у западной цивилизации есть иное кредо?»47Совершенно прозрачно здесь, что под «властью, ссылающейся на высокое законное право по отношению к человеку», которую сокрушает «человеческое я , эта определяющая частица современной демократии», имеет Тютчев в виду абсолютную монархию. И потому с демократией^^ тяжба, а вовсе не с буржуазией. А чтобы уж вовсе не осталось сомнений, что никаких специально буржуазных революций в природе не существует, он подчеркивает: «революция едина и тождественна в своем принципе». Другое дело, что «из этого именно принципа... и вышла нынешняя западная цивилизация» («буржуазная цивилизация», опять поправляет своего героя Кожинов).48Но бог с ним, с биографом. На самом деле хочет доказать Тютчев, почему средоточием зла в современном мире — и воплощением ненавистной ему западной цивилизации — была Франция. При-
4
В.В. Кожинов. Тютчев, М., 1988, с. 288. Там же.
Там же, с. 289 (выделено мною. — А.Я.)
чем, именно потому, что служила «обнаженным мечом католицизма», как назовет её впоследствии Достоевский. Не спрашивайте, что связывает «силы разрушения» с католицизмом. Просто Федор Иванович ненавидел «отступнический Рим» так же страстно, как Федор Михайлович. И тому и другому обязательно нужно было связать «стремление к разрушению» с Ватиканом (и с Францией). Эта тройная ненависть и составляла, можно сказать, основу их политической философии. Как связывал эти три своих ненависти Достоевский, увидим мы в третьей книге трилогии (см. раздел «Пророчество Достоевского»), как делал это Тютчев, увидим сейчас.
Конечно, он европейски образованный человек и знает, что зловредный «принцип» революции, автономию личности от церковной и секулярной иерархии, куда удобнее связать с Реформацией и протестантизмом. Он и сам признает, что «стремление к разрушению окрепло и расцвело благодаря Реформации... восприняв от неё окончательную форму, так сказать, законное посвящение».49 Но при чем здесь тогда католицизм? А при том, что Реформацию, а стало быть, и революцию породило все то же папство: «Рим, конечно, поступил не так, как протестантство, он не упразднил христианского средоточия, которое есть церковь, в пользу человеческого я, но зато он проглотил его в римском я».50
И чем, спрашивается, могло такое злодеяние закончиться? Согласно Тютчеву, оно сбило с толку бунтующих против жадного Рима христиан и помешало им обратить свои взоры к «высшей власти», к Константинополю, то есть к православию. В результате «вожди реформы, вместо того чтобы нести свои обиды пред судилище высшей и законной власти, предпочли апеллировать к суду личной совести».51 Конечно, ни один серьезный теолог не согласится с таким странным толкованием Реформации. В конце концов не для того ведь бунтовали эти люди против римской иерархии, чтобы идти в подчинение к константинопольской. Но мы-то уже знаем, что теология Тютчева политическая и с богословием ничего общего не имеет.
«Русская идея», с. 94-95.
В. В. Кожинов. Цит. соч., с. 291.
Ф.И. Тютчев. Цит. соч., с. 59.
Тем более, что и сам он церковным человеком никогда не был, да, собственно, не был и верующим. Признать это вынужден даже Кожинов: «он жил на грани веры и безверия, во всяком случае — за пределами церкви».52 Это, впрочем, не мешало Тютчеву «держаться того мнения, что в России именно церковь и правительство должны взять в свое ведение человеческие души».53 Не помешало и Кожино- ву с сочувствием комментировать убеждение Тютчева, что «только православие является истинным христианством», а «в католицизме и протестантстве он видел искажение, извращение».54 (Точно так же, заметим в скобках, как четверть века спустя убежден будет Н.Я. Данилевский, что протестанство есть «отрицание религии вообще», а католицизм — «продукт лжи, гордости и невежества».)55 Московитское религиозное сектантство оказалось, как видим, родовой чертой «патриотизма по образцу Николая».