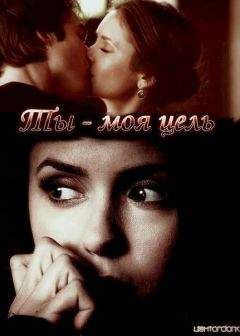Ричард Олдингтон - Смерть героя
Защитный занавес у входа приподнялся – шатаясь, стаскивая с лица противогаз, ввалился денщик Эванса.
– Уинтерборну срочно явиться в полной боевой готовности.
Уинтерборн поспешно обулся, навьючил снаряжение, рывком надел противогаз и под нескончаемым ливнем химических снарядов рысцой пустился к офицерскому погребу. С удивлением, с тревогой и стыдом он заметил, что весь невольно съеживается, когда поблизости падает снаряд, и ему теперь стоит большого труда не пригнуться, не припасть к земле. В ярости он честил себя трусом, негодяем, тряпкой, всеми бранными словами, какие только приходили на ум. И все-таки тело невольно съеживалось. То была крайняя степень вызванного войной напряжения, когда вражеский аэроплан – и тот наводит ужас.
Эванс что-то старательно писал. Просторный погреб казался пустым и мрачным, как никогда, единственный обитатель терялся в нем – ведь меньше двух недель назад их здесь было шестеро.
– Вы знаете, что мистер Томпсон убит?
– Да, сэр. Хендерсон мне сказал.
– Нечего делать вид, что у нас тут рота, когда я остался один и у меня сорока человек не наберется, годных к работе, – с горечью сказал Эванс. – Вот получил бумажку из штаба дивизии – жалуются, что у нас сейчас дело идет много хуже, чем месяц назад. Как будто они не знают, что были бои, что мы вымотались и потеряли две трети людей.
Потом он молча перечитал донесение, сложил его и протянул Уинтерборну:
– Отнесите это в штаб батальона. Я сделал пометку «весьма срочно». Если полковник спит, добейтесь, чтоб его разбудили. Если он начнет расспрашивать, объясните, в каком мы положении. Я его уже три недели не видел. И скажите, что не уйдете, пока вам не дадут ответа.
– Слушаю, сэр.
– И вот что, Уинтерборн…
– Да, сэр?
– Тут пришла еще одна бумажка, требуют, чтобы каждая рота послала двух желающих в офицерскую школу. Пойдет Хендерсон, он мал да удал. А еще вызвались этот неряха помощник повара и санитар. Оба остолопы. Я не стану их рекомендовать. Но я хотел бы, чтобы пошли вы. Пойдете?
Уинтерборн колебался. Ему совсем не хотелось отвечать за людей, и ведь он считал, что его долг – оставаться рядовым, на передовых позициях, исполнять самую черную, самую тяжелую работу, делить участь простых, обыкновенных солдат. Однако согласился же он стать вестовым. Да и трудно было сейчас не поддаться искушению. Согласиться – значит на несколько месяцев вернуться в Англию, снова увидеть Фанни и Элизабет, согласие – это передышка. Но вот странно, ему не хотелось расставаться с Эвансом; он вдруг понял: все, что он делал в последние месяцы, он делал главным образом потому, что привязался к этому человеку, заурядному и невежественному, человеку того сорта, который он всегда глубоко презирал, – к великовозрастному школьнику.
– Ну, какие у вас там сомнения?
– Право, не знаю, сэр, как вы без меня обойдетесь, – сам себе удивляясь, ответил Уинтерборн.
Эванс даже выругался от неожиданности.
– И потом, – прибавил он, – если дальше так пойдет, я недолго протяну. Что ж, записать вас?
– Да, сэр.
После он пожалел об этом «да».
Написанное резко и без обиняков донесение Эванса круто изменило их жизнь. Их перевели на место другой саперной роты, на сравнительно тихий участок фронта. Эванс построил своих сорок саперов как один взвод, и по дороге им встретились один за другим четыре взвода сменившей их роты. На ходу солдаты перекидывались ехидными шуточками.
На новом месте оказалось не в пример лучше прежнего. У них появился капитан, формально принявший командование, и два младших офицера. Но рядовыми роту не пополнили. Видно, их неоткуда было взять. Саперы поселились в блиндажах и землянках линии резерва. Уинтерборн, Хендерсон и еще двое вестовых разместились в землянке с двухфутовым перекрытием в нескольких шагах от офицерского блиндажа. Уинтерборна теперь по всем правилам назначили вестовым роты. Он попеременно проводил две недели на передовой и две – при штабе батальона. Жизнь в штабе казалась ему чуть ли не раем: парусиновая койка, снаряды почти не долетают, и кормят неплохо, и отдохнуть можно. Он не знал, что его просьбе о производстве в офицеры сразу был дан ход, и теперь о нем заботились.
Спустя два дня после того, как они перешли на новые квартиры, в землянку вестовых заглянул встревоженный денщик Эванса:
– Уинтерборн!
– Да?
– Иди скорей! Мистер Эванс заболел.
– Заболел?!
Когда Уинтерборн подбежал к Эвансу, тот стоял, прислонясь к стенке окопа. Он был мертвенно-бледен.
– Что с вами, сэр?
– Газ. Наглотался этой мерзости. Не могу больше. Иду на перевязочный пункт.
– Я достану носилки, сэр?
– Нет, к чертям, так дойду. Ноги еще держат. Берите мой ранец, и пойдем.
Через каждые несколько шагов Эванс вынужден был останавливаться и прислоняться к стенке окопа. Его мучительно тошнило, но рвоты не было. Уинтерборн хотел взять его под руку, но Эванс только отмахнулся. В конце хода сообщения лежали на носилках два страшно изуродованых трупа. Оба молча прошли мимо, но Эванс подумал: «Все-таки газ лучше», а в мозгу Уинтерборна мелькнуло: «Скоро ли и меня вот так положат?»
Наконец, поддерживая Эванса, он довел его до перевязочного пункта. У входа они пожали друг другу руки.
– Вас произведут в офицеры, Уинтерборн.
– Спасибо, сэр. Как вы себя чувствуете? Может быть, мне остаться с вами?
– Не надо. Вернитесь и доложите, что оставили меня здесь.
– Слушаю, сэр.
Они еще раз пожали друг другу руки.
– Ну, до свиданья, дружище, всего вам наилучшего.
– До свиданья, сэр, до свиданья.
Больше он Эванса не видел.
С уходом Эванса Уинтерборн разом утратил всякий интерес к своей роте. Новых офицеров он не знал, капитан был ему неприятен, и разумеется, отношения с ними у него были совсем не те, что с Эвансом. Хендерсон уехал в Англию, в офицерскую школу. Никогда еще Уинтерборну не было так одиноко. И он с отвращением и ужасом понял, что мужество ему изменило. Его ежедневные походы были теперь совсем нетрудны – каких-нибудь полторы мили, только и услышишь, что несколько пулеметных очередей да три-четыре десятка «чемоданов» разорвется. Немцы обнаружили несколько танков, скрытых за отвалом шлака, мимо которого лежал путь Уинтерборна, и пытались достать их из тяжелых орудий. Уинтерборн убедился, что теперь ему нелегко заставить себя идти навстречу снарядам, по тем местам, где они рвутся. Ночами было хуже всего. Однажды ночью он сделал то, чего никогда еще не делал, идя с поручением: переждал минут десять, пока обстрел немного не утих.
Как ни странно, эти десять минут спасли ему жизнь. Идя по окопу, он слышал, что несколько снарядов разорвались у самого штаба роты. Один снаряд попал прямиком в ненадежное убежище вестовых и разнес его в куски, отдыхавший там вестовой Дженкинс, девятнадцатилетний мальчик, был убит на месте. Не замешкайся Уинтерборн в пути на эти самые десять минут, неминуемо убило бы и его. Он чувствовал себя глубоко виноватым. Быть может, приди он раньше, мальчика услали бы с ответом. Впрочем, нет, ответ пришлось бы отнести ему, а не Дженкинсу.
Он лишился одеяла, подстилки и ранца. Вестовых перевели в такую же землянку, двадцатью ярдами дальше. Уинтерборну тяжко было проходить мимо разбитой снарядом землянки. Всякий раз вспоминался Дженкинс, его нелепая ребячья улыбка. До армии Дженкинс служил рассыльным, потом – приказчиком в бакалейной лавке, в маленьком провинциальном городишке. Самая заурядная личность. Читал «Джон Булль» и принимал его всерьез, свято верил каждому слову. В остальном же серьезен не бывал, вечно сыпал довольно плоскими остротами, и по-мальчишески ухмылялся во весь рот, и никогда не брюзжал. Уинтерборн жалел о нем.
В дни, которые Уинтерборн проводил в штабе, он пытался читать – и понял, что это ему не по силам. Ему попался старый номер «Спектейтора» со статьей о Порсоне, с автором он когда-то был знаком. Он даже не вспомнил, кто такой Порсон, пока не дочитал статью до конца, и нередко самые простые выражения ставили его в тупик, точно какого-нибудь землепашца. В отчаянии он швырнул газету и попросил разрешения пойти в кабачок. Вина не продавали, спиртное было под запретом. Он сидел в кабачке, пил дрянное и вполне безобидное французское пиво и вместе с другими томми однотонно тянул душещипательные песенки. У него вошло в привычку совать взятку каптенармусу, чтоб тот давал ему лишнюю порцию рому. Все, что угодно, лишь бы забыться.
Кончались очередные две недели житья при штабе батальона, и он, как обычно, явился к старшине:
– Уинтерборн, вестовой четвертой роты, сэр. Возвращаюсь на передовую.
Старшина, поджав губы, стал перелистывать какие-то бумаги: