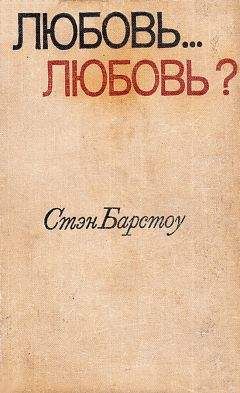Стэн Барстоу - Любовь... любовь?
Она отвернулась, чтоб не видеть этого бесовского взгляда, и пробормотала:
— Грешно играть...
Она сама в это не верила и, чувствуя несостоятельность своего утверждения, подивилась, почему она так сказала. Это были не ее слова, а слова ее отца: с какой стати после стольких лет она вдруг вспомнила его поучения?
— Не поминай при мне этого старого ханжу, — спокойно сказал Скерридж.
— Я уж и сказать тебе ничего не могу, да? — спросила она. — Ты, значит, сам все знаешь? Поэтому и твоя родная дочка ушла из дому: ты знал, чем ее прогнать. Смотри не доведи и меня до того же.
Ее слова заставили его вскочить с кресла — он стоял теперь над ней, лицо его дышало яростью.
— Не смей говорить о ней в этом доме! — рявкнул он — Неблагодарная сука! Не желаю ничего слышать о ней, ясно? — Он качнулся под приступом кашля и притулился к очагу, пока его не отпустило. Со свистом вдохнув и выдохнув несколько раз воздух, он сказал: — А если хочешь уйти, можешь убираться в любое время.
Она понимала, что это только слова. Понимала и то, что никогда не уйдет. Она никогда всерьез об этом не думала. Ева, исподтишка навещавшая мать, когда отца не было дома, не раз спрашивала ее, как она может это терпеть, но она знала, что никогда его не бросит. С годами она все чаще и чаще вспоминала об отце и стала воспринимать свою жизнь, как предсказанную им неизбежную кару за грех, в который она впала, связав себя со Скерриджем и произведя Еву на свет. Еву, которая теперь, когда колесо судьбы сделало полный оборот, тоже ушла из дому без родительского благословения, хотя и по иным причинам. Нет, она никогда не покинет его. Но и жизни у нее с ним не будет — это уж точно. Со временем она поверила в предсказание отца о том, что ничего хорошего из их совместной жизни не выйдет, и теперь то и дело поддавалась, смутному, но все же тревожному предчувствию надвигающейся трагедии. Давно уже миновали те дни, когда она надеялась на то, что Скерридж образумится. Слишком он далеко зашел, и этот бес уже напрочь вселился в него. Но и она пересекла рубеж, когда возврата быть не может. На горе или на радость — она связана с ним, так сложилась ее жизнь, а от жизни не убежишь.
Они продолжали сидеть у огня — два человека, таких близких и таких чужих, — и молчали, потому что им нечего было друг другу сказать; часов около шести Скерридж поднялся с кресла, умылся и кое-как побрился возле умывальника в углу. Она тупо смотрела на его приготовления к уходу.
— Собачьи бега? — спросила она.
— Сегодня ведь суббота, не так ли? — вопросом на вопрос ответил Скерридж, надевая пиджак.
Чувство предстоящего одиночества вдруг навалилось на нее, и она сказала с плаксивой ноткой в голосе:
— Почему ты как-нибудь в субботу меня с собой не возьмешь?
— Тебя? — сказал он. — Взять с собой тебя? Да неужели ты считаешь, что с тобой можно куда-нибудь пойти? Ты только посмотри на себя! А ведь какая ты была раньше!
Она отвела глаза. Теперь она и обижаться перестала. Но ведь и она могла вспомнить, каким он был раньше, — правда, она теперь редко этим занималась: подобные воспоминания пробуждали в ней отчаяние, пересиливавшее даже апатию, которая стала с годами единственным ее прибежищем.
— Когда же ты вернешься?
— Когда переступлю порог, тогда и вернусь, — сказал он уже в дверях. — И наверняка ужинать захочу.
А порог он переступит, когда нетвердые ноги приведут его домой, подумала она. Если он проиграет, то напьется, чтобы утешиться. Если выиграет, то напьется, чтоб отпраздновать выигрыш. А на ее долю в любом случае останется лишь злость да новые оскорбления.
Через несколько минут после того, как он ушел, она поднялась и подошла к задней двери, чтобы посмотреть, что происходит на дворе. Снова шел снег, и его легкий чистый пушок смягчал резкие, уродливые очертания разваливающихся построек на участке за домом и засыпал следы Скерриджа, шедшие от двери вниз по склону, в направлении леса, который пересекала тропка, выходившая на шоссе в миле от них. Женщина вздрогнула, почувствовав дыхание холодного воздуха, и вернулась в дом, захваченная помимо воли воспоминаниями. Было время, когда сараи стояли крепкие, прочные и служили пристанищем для домашней птицы. Сад и огород тоже выглядели иначе и снабжали их овощами и фруктами, которые не только удовлетворяли их собственные нужды, но еще и, шли на рынок. Сейчас огород зарос сорняками и щавелем: Ну, а дом — они купили его задаром, потому что он был старый и слишком большой для одной хозяйки, но и он в свое время был крепким и прочным и неплохо выглядел, если его исправно красить, подправлять стены и следить за рамами. В первое время, видя, как все начинает расползаться, она пыталась сама что-то делать. Но это была неблагодарная безнадежная борьба без всякой поддержки со стороны Скерриджа, — борьба, в которой она под конец потерпела поражение и которая привела к тому, что сначала она впала в отчаяние, а потом в апатию. Теперь все гнило и разваливалось, и это постепенное умирание было как бы символом ее собственного превращения из полной надежд молодой жены и матери в уславшую от жизни старуху.
Раздумывая обо всем этом, она вымыла чашки и поставила их сохнуть. Потом взяла ведро для угля и пошла вниз в большой погреб, где было темно как в склепе и капало с потолка. Там она наполнила ведро и потащила его наверх. Заправив огонь, навалив в очаг целую гору сырого блестящего угля, она почувствовала некоторое удовлетворение от того, что хоть в этом благодаря шахтерскому пайку, положенному Скеррижду, они никогда не терпят недостатка. Затем она включила приемник на батареях и протянула ноги в рваных парусиновых туфлях к огню.
По радио передавали программу старинной танцевальной музыки — «Сельский вальс», «Велета», «Мы, уланы», «Ты моя медовая кашка, а я пчела...» Оба они — и она и Скерридж — в те далекие, далекие дни любили старинные танцы и, презирая современные фокстроты, в первые годы замужества часто кружились в вальсе, пока какая-нибудь добрая соседка смотрела за малюткой Евой. Ах, какие это были чудесные дни — короткая эра блаженной свободы, когда строгие ограничения родительского дома остались позади, а безумие Скерриджа еще было сокрыто во мраке будущего. Ах, какое это было время... Сегодня словно все сговорилось тревожить ее память: она сидела перед приемником, и знакомые мелодии поднимали со дна души давно затонувшие картинки и прибивали их к берегам ее сознания; тогда она взяла свечу и поднялась в холодную, похожую на сарай спальню, взобралась на стул и долго рылась в ящике над встроенным в стену гардеробом, пока не извлекла оттуда альбома с фотографиями. Вытерев заплесневелую крышку о свою рабочую блузу, она спустилась с альбомом вниз, к огню. Она многие годы не заглядывала в этот альбом и сейчас медленно переворачивала страницы, возвращаясь к дням своей юности.
Она заснула и проснулась от неожиданного стука в заднюю дверь, — газовая лампа потухла, и комнату освещали лишь отблески огня, догоравшего в очаге. Она подумала было, что стук ей послышался, но он повторился, на этот раз более настойчивый, тогда она встала и, подняв и положив на стол альбом с фотографиями, который соскользнул с ее колен на пол, пока она спала, вышла в сени.
Остановившись в нескольких шагах от двери, она крикнула: «Кто это? Кто там?» Дом-то ведь стоял в стороне от жилья, и, хотя нервы у нее были крепкие, на этот раз, внезапно пробудившись от сна, она почувствовала легкую тревогу.
— Это я, — ответил женский голос. — Ева.
— Ох! — выдохнула миссис Скерридж и, подойдя к двери, отодвинула засов и распахнула ее. — Входи, моя радость, входи. Я тебя не ждала сегодня. Ты, наверно, совсем застыла.
— Подожди минутку, — сказала дочь,— я только крикну Эрику. — Она дошла до угла дома и крикнула в темноту. Мужской голос ответил ей, потом с дороги, пролегавшей мимо фасада, раздался захлебывающийся кашель мотоцикла.
— Я уж думала, что тебя нет дома, когда увидела, что темно, — сказала Ева, вернувшись. Она отряхнула снег с сапог и только тогда вошла в сени. — Что ты делаешь в темноте? Только, пожалуйста, не говори, что у тебя нет денег на газ.
— Он погас, пока я дремала.
Они прошли по выложенному каменными плитами коридору на кухню, освещенную огнем из очага.
— Я сейчас найду кошелек — может, у меня там есть медяки.
— Подожди, — сказала Ева и достала свой кошелек. — У меня есть шиллинг — дольше гореть будет.
— Да у меня тоже есть медяки... — начала было мать, но Ева уже вышла из комнаты, и каблуки ее застучали по ступенькам, ведущим в погреб. Миссис Скерридж поднесла свернутую бумажку к огню и, услышав звон шиллинга, упавшего в счетчик, зажгла газ.
— А Эрик что, не зайдет? — спросила она у Евы, когда та вернулась.
— У него заседание футбольного клуба в Крессли, — сказала Ева. — Он заедет за мной на обратном пути. Тогда, может, и заглянет на минутку.