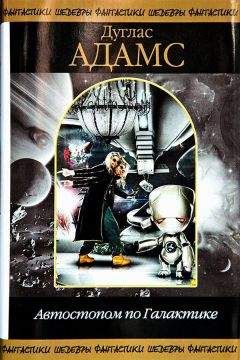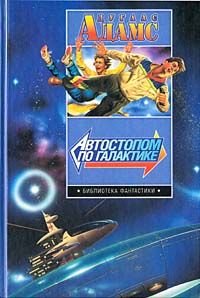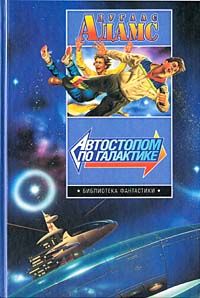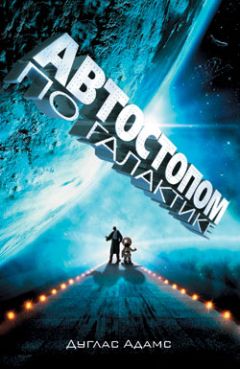Александр Станюта - Площадь Свободы
«Иду по наждаку асфальта. Улица дышит дымным жаром городского вечера. Ком красного солнца покачивается в щели между громадами домов». Это из рассказа «Слон» Адама Глобуса. Типичны настроение его юных героев, их интонация, эмоциональная волна И типична для автора в рассказах с такими героями ритмика и темп, общая тональность и интонационная нюансировка А. Глобус может создать ощущение своеобразной завершенности в подчеркнуто будничном моменте жизни («Вова. Вова», «Вода на кафельном квадрате», «На велосипедах по песку»). Он наблюдателен и свеж в деталях. У него живой диалог, когда звучат голоса персонажей, а не «озвучивающего» их автора и когда, слушая людей, видишь их жизнь («Зря»). В некоторых рассказах А. Глобуса заметны следы его литературных увлечений—например, Сэлинджером или эстонской «молодой прозой». Что ж, способность вбирания разнородного (речь ведь не о слепом заимствовании) и отличает, помимо прочего, жизнеспособный, нормально развивающийся творческий организм. И все же индивидуальные симпатии должны сказываться, наверное, незаметно для читателя, как уже достаточно глубоко впитанная художественная культура, а не просто чей-то легко узнаваемый мотив («Между предыдущим и следующим»).
Наиболее же традиционна из наших сегодняшних молодых прозаиков Христина Лялько. И в выборе сюжетно-тематических элементов, и в самой повествовательной манере, в пластично, с любовью выписанном мире сельской жизни чувствуется та необходимая душевная сосредоточенность, благодаря которой и в совершенно, казалось бы, простом, ничем не примечательном жизненном случае или положении можно ощутить неявный, более глубокий смысл. Героини рассказов X. Лялько — часто уже немолодые или старые женщины («Марцеля», «Цыба»г «Ворон», «Белые броды»), И видна неспешность, несуетность в ее стараниях очертить и прочесть их судьбы — словно бы даже не столько читателю, вслух, сколько себе самой, чтоб уразуметь и запомнить. У X. Лялько свой голос и свой почерк, но вряд ли помешало бы ей большее разнообразие как в привлекаемом материале, так и в стилистике. Может быть, новелла «Канвалии» — уже и попытка выйти к этому разнообразию, не дожидаясь советов со стороны.
Совершенно в иных тематических и жанровых направлениях работает Алесь Асташонок. Он довольно уверенно обращается к приемам художественной условности, в частности, к своеобразной, так сказать, «будничной» фантастике («Метаморфоза, или Удивительный случай с бухгалтером Поваляевым»), умеет трансформировать собственное наблюдение, встретившийся в жизни факт в форму как бы невыдуманного повествования («Родина вечна») создав необходимую иллюзию присутствия читателя в происходящем. А в «Супере», жанр которого автор определил как «городская история», рассказано о жизни тех молодых людей, что стоят, по сути, уже у какой-то последней черты. В этой истории, написанной с оправданной жесткостью, немало той негативной достоверности, от которой кое-кто может поморщиться, как от «чернухи», но от которой нелегко отмахнуться, как от реальности сегодняшнего дня.
Еще одно лица необщее выражение — влюбленный в белорусскую историю Владимир Орлов, который вполне заслуженно считается у нас продолжателем традиций Владимира Короткевича. Колоритный язык, умение воссоздать исторические реалии в выразительных деталях, уместное и ненавязчивое использование мифологической атрибутики помогают ему приблизить далекую во времени жизненную фактуру, сделать ее зримой, рельефной (повести «День, когда упала стрела», «Время чумы»). Насколько хорошо осваивает В. Орлов нужный ему исторический факт, событие, как свободно и уверенно чувствует себя при их сюжетной разработке, видно и на небольшом пространстве рассказа («Монолог святого Петра», «Миссия папского нунция», «Возле дикого поля»). Но эта уверенность выглядит порой излишней, материал как бы не сопротивляется, и обрисовка конкретных реалий не всегда углубляет общезначимый смысл рассказанного и характеры героев.
Необходимая мера художественной преображенности жизненного материала остается, по-видимому, у наших «молодых» одной из самых главных и общих творческих проблем.
Нередко логическое разумение той или иной темы слишком поспешно принимается ими за внутреннюю готовность к творчеству. А вот услышан ли хоть на миг сигнал «обратной связи», сигнал от того мира, который нужно воссоздать? Но ведь для этого надо так владеть материалом, чтоб и он уже, в свою очередь, владел твоим воображением и вел за собой.
Может, наши «молодые писатели» слишком уж буквально понимают частые, особенно сегодня, требования от литературы вмешательства в жизнь? Но ведь не скажешь, что они сознательно полагаются преимущественно на публицистическое начало, нет. И, наверное, правильно делают... Иногда нам так и хочется, поучая якобы отстающую или излишне мудрствующую литературу, назидательно напомнить ей слова Толстого: «Если хочешь что сказать, скажи прямо». При этом забывается, во-первых, что так советовал именно автор «Войны и мира» и «Анны Карениной». А во-вторых, что не следует слишком прямо понимать и сам этот совет. А можно и вспомнить фильм А. Тарковского «Сталкер», где на языке кино так доказательно выражена мысль о том, что самый близкий путь к истине — не всегда прямой. И только вослед уже наконец утихающим, надо надеяться, спорам на эту тему уместно привести замечание В. Набокова из его эссе «Николай Гоголь» о том, что люди, отрицающие художественность, тем самым свидетельствуют лишь о своем убогом понимании ее — скажем, как нимф, колонн из мрамора и т. п. Поражает, как многое могут вовремя подсказать нам из своей вечности классики. Вспомнишь, например, у Достоевского «в припадке общежития» — и лишний раз задумаешься, до чего же все-таки сильна у нас вера в непогрешимость принципа коллективизма и организации в художественном творчестве... И о том, почему многие так любят клясться «поколениями», только ими и мыслить в критике, выискивая в них «общности» вместо различий... Наконец, почему именно у нас было изобретено понятие, не известное литературам никаких иных времен и народов, а именно «молодые писатели», в результате чего некоторые очень хорошо помнят об этом своем прилагательном, не прилагая особых усилий, чтобы оправдать себя как «существительное»?
Стоит ли говорить о том, что поступки молодых в литературе должны быть искренними, что их слово должно идти из глубины того, что они действительно пережили и во что они по-настоящему верят... Несколько лет назад я увидел, как Э Климов снимал свое «Прощание» по повести В. Расутина, и, может, потому, что в роли Дарьи Пинигиной снималась моя мать, до сих пор помню один эпизод на съемочной площадке. При работе над крупным планом с участием Дарьи режиссер, увидев какие-то не устраивавшие его в игре актрисы элементы сценической техники, стал настаивать с присущей ему убежденностью: «Никакого жеста, никакой мимики — умоляю вас: только то, что внутри..v Или это есть — и тогда оно все равно обнаружит себя — или будем искать что-то иное»
Об этом же думается и теперь, при разговоре о творчестве «молодых», о главных путях в достижении ими искомого. Да, только то, что внутри, и никаких лишних движений и «жестов»! И одно из двух: или это, сокровенное, есть — и тогда оно скажется, станет заметным для всех Или его нет — и тогда уже не помогут ни советы по национальным литературам в СП, ни «круглые» или «острые» столы в редакциях.
Ибо в том, что обычно говорится у нас «молодым писателям», слишком редко упоминается одна старая истина: как и всякое художественное творчество, литература — еще и очень одинокое дело, где надеяться нужно прежде всего на самого себя... Помнить это не очень-то весело. Зато полезно.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Всего несколько слов. Как бы попытка автокомментария.
Итак, наиболее подробно здесь сказано о двух прозаиках — Василе Быкове и Михасе Стрельцове. Фигуры это действительно яркие, несмотря на то, что Стрельцов, так рано уйдя из жизни в 1987 году, не успел сделать всего, чего от него ждали. И тем не менее выбор их как главных для этого разговора могут счесть не совсем убедительным. Смущает разномасштабность репутаций. Или: некрупность и, так сказать, «акварельность» фигуры Стрельцова в сравнении с Быковым. В отношении своеобразия дарования сопоставление таких писателей у белорусского читателя допросов бы не вызывало. Но вот для читателя союзного эти имена неравнозначны. Быков сделал несравнимо больше — и несравнимо больше известен. А выбраны они для разговора потому еще, что, как думается, шли в определенном смысле как бы навстречу друг другу: Быков, которому сегодня за шестьдесят,-— из войны, с горьким ее знанием, без всяких иллюзий и с желанием сказать свою жесткую, суровую правду свидетеля истории; Стрельцов же который дожил лишь до пятидесяти,— из послевоенного деревенского детства, с воспоминанием о том «где всем любимым место», с чуть отстраненным, лирико-философичным отношением к миру и со щемящей нотой утраты внутренней цельности... Ну, хорошо, пусть это слишком фигуральное выражение — «навстречу друг другу». Но дело не столько в них самих, сколько в том, что в литературе, в искусстве противоположности если и не притягиваются, не сближаются сами, то, во всяком случае, способны быть своего рода центрами родственных им по тому или иному признаку явлений. А такие художественные центры не то что стягивают, делают более близким все, что к ним относится или вокруг них группируется, но создают между собой какое-то активное и единое целостное поле культуры со множеством отталкиваний и притяжений внутри него Это и как бы «знаки», обозначающие ширину «фарватера», наиболее глубокой части художественного процесса — литературного или какой-либо иной сферы искусства. И чем дальше — визуально — эти точки одна от другой, тем шире, разнообразнее поле национальной культуры.