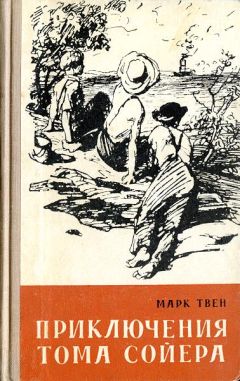Марк Твен - Приключения Тома Сойера (пер. Ильина)
Гостей усадили на самые почетные места, и мистер Уолтерс, покончив со своей речью, представил их ученикам воскресной школы. Джентльмен средних лет оказался человеком исключительным — не больше и не меньше как окружным судьей, — особы столь царственной здешние дети ни разу еще не видели и потому им оставалось лишь гадать, из какого рода материи она сотворена: дети и жаждали услышать раскаты ее могучего рева, и страшились этих раскатов. Судья прибыл сюда из Константинополя, проделав путь в двенадцать миль, и стало быть, познав, путешествуя, мир, — он своими глазами видел здание окружного суда, крытое, как уверяли, луженым железом. Благоговение, неотделимое от мысли о подобных свершениях, удостоверялось выразительным молчанием и глазами, неотрывно вперявшимися в великого окружного судью, родного брата другого судьи Тэтчера. Джефф Тэтчер немедля вышел к гостям, чтобы на зависть всей школе пофамильярничать с великим человеком. В душе его отзывались музыкой шепотки:
— Ты посмотри на него, Джим. Пошел, пошел. Ну и ну… смотри! Сейчас руку ему пожмет — уже пожимает! Ах, чтоб меня, небось, и ты хотел бы быть Джеффом!
Мистер Уолтерс тут же принялся «выставляться», прибегая для этого ко всем, какие делала возможными его должность, уловкам: отдавая распоряжения, вынося суждения и осыпая указаниями того, другого, третьего — в общем, всех, кто попадался ему под руку. Школьный библиотекарь «выставлялся», снуя туда-сюда с охапками книг, лопоча и шикая на всех с наслаждением, с каковым сопряжена была его ничтожная власть. Молоденькие учительницы «выставлялись», ласково склоняясь над детьми, которых они совсем недавно угощали подзатыльниками, умильно грозя пальчиками нехорошим мальчикам и любовно гладя по головам хороших. Молодые учителя «выставлялись» посредством кратких нагоняев и иных проявлений власти, позволяющих поддерживать должную дисциплину — и почти у всех учителей, независимо от их пола, отыскалось какое-то дело в находившейся за кафедрой библиотечке: некоторые из них ныряли туда по два и по три раза (и с чрезвычайно озабоченным видом). Девочки «выставлялись» способами самыми разными, а мальчики предавались этому занятию с таким усердием, что воздух вскоре наполнился комочками жеваной бумаги и гомоном потасовок. А над всем этим восседал, озаряя церковь возвышенной судейской улыбкой и греясь в лучах своего величия, судья Тэтчер, — ибо и он «выставлялся» по-своему.
Не доставало лишь одного, чтобы сделать владевший мистером Уолтерсом иступленный восторг полным и окончательным, — возможности предъявить гостям вундеркинда и вручить ему наградную Библию. У нескольких, самых выдающихся учеников его школы желтые билетики имелись, однако в количествах недостаточных, — он уже справился на сей счет, переговорив с ними. Что бы ни отдал он сейчас за возвращение в школу того паренька немецких кровей — в здравом, естественно, уме и рассудке.
И вот, в миг, когда все надежды, казалось, угасли, вперед выступил Том Сойер и, предъявив девять желтых билетиков, девять красных и десять синих, потребовал выдать ему Библию. То был гром среди ясного неба. Услышать в ближайшие десять лет такое требование с этой стороны мистер Уолтерс никак уж не ожидал. Однако податься ему было некуда — чеки были предъявлены, и чеки подлинные. И потому Тома взвели на помост — к судье и прочим избранным, — после чего директор школы объявил ей великую новость. С таким потрясающим сюрпризом она за последние десять лет не сталкивалась, и ощущение, порожденное им, поставило нового героя вровень с самим судьей, так что теперь вся школа взирала сразу на два дивных дива. Мальчиков снедала зависть, и особенно злые ее укусы выпали на долю тех, кто слишком поздно сообразил, что создал этот ненавистный блеск, эту славу собственными руками, отдав Тому билетики в обмен на богатства, которые он скопил, торгуя правом побелки забора. Как же они презирали себя — простофиль, ставших жертвами коварного пройдохи, злокозненной подколодной змеи.
Награду Тому вручили со всей помпезностью, на какую директор оказался способным в таких обстоятельствах, однако чего-то в его многоречии все-таки не хватало, ибо несчастный всем нутром ощущал присутствие некой тайны, которую лучше, пожалуй, не выволакивать на свет божий; ибо нелепостью было бы полагать, что этот мальчишка смог разместить две тысячи снопов библейской премудрости в риге своего разума, которая, вне всяких сомнений, даже от дюжины их треснула бы по всем ее углам.
Эмми Лоренс наполнилась гордостью и довольством и очень старалась показать это Тому, однако он в ее сторону не смотрел. Она удивилась; затем чуть-чуть встревожилась; затем ее посетило смутное подозрение — быстро ушедшее и тут же вернувшееся. Эмми стала бдительно наблюдать за Томом — и один его украдкой брошенный взгляд открыл ей все, и сердце ее разбилось, ревность и гнев овладели бедняжкой, глаза ее наполнились слезами, и она возненавидела все и вся, а пуще всех Тома (так она полагала).
Тома представили судье; язык мальчика онемел, ему едва удавалось дышать, сердце его трепетало — отчасти по причине грозного величия этого человека, но главным образом потому, что он был ее отцом. Если бы в церкви было темно, Том с радостью пал бы к его стопам и молился бы на него. Судья возложил ладонь на макушку Тома, назвал его славным мальчиком и спросил, как его зовут. Том задохнулся и с запинкой выдавил:
— Том.
— О нет, не Том, но…
— Томас.
— А, вот оно что. Я так и думал, что имя твое немного длиннее. Очень хорошо. Но, смею полагать, и к нему найдется что добавить — так не скажешь ли мне, что именно?
— Назови джентльмену свою фамилию, Томас, — потребовал Уолтерс, — и не забудь прибавить «сэр». Совсем не умеешь себя вести.
— Томас Сойер… сэр.
— Ну вот! Молодец. Славный мальчик. Славный маленький мужчина. Две тысячи стихов это очень много — очень и очень. И ты никогда не пожалеешь о трудах, которые потратил на то, чтобы их заучить, ибо знание дороже всего на свете, это оно создает великих и достойных людей. Когда-нибудь и ты, Томас, станешь великим и достойным человеком и, оглянувшись на пройденный тобою путь, скажешь: всем этим я обязан тому, что получил в детстве редкостную возможность посещать воскресную школу; всем этим я обязан моим дорогим учителям, которые наставили меня на путь, ведущий к знанию; и достойному директору школы, который ободрял меня в моих трудах, и окружал заботой, и одарил прекрасной Библией — великолепной, изысканной Библией, чтобы я всегда носил ее с собой и заглядывал в нее, — всем этим обязан я правильному воспитанию! Вот что ты скажешь, Томас, и ты не согласишься отдать эти две тысячи стихов ни за какие богатства, нет, не согласишься. А теперь, если ты не против, поведай мне и этой леди что-нибудь из заученного тобой, — впрочем, я знаю, ты не против, ибо все мы гордимся мальчиками, прилежными в учебе. Ну что же, тебе без сомнения известны все двенадцать апостолов. Так не назовешь ли ты нам имена двух из них, тех, что были призваны первыми?
Том, ковыряясь пальцем в пуговичной петле, сконфуженно уставился на судью. Потом покраснел, потупился. Сердце мистера Уолтерса сжалось. Он говорил себе: «Мальчишка и на простейший-то вопрос ответить не может, зачем же судья его спрашивает?». Однако просто стоять и молчать он не мог и потому сказал:
— Ответь джентльмену, Томас, не бойся.
Том медлил.
— Я знаю, мне ты ответишь, — сказала леди. — Первых двух учеников Христа звали…
— ДАВИД И ГОЛИАФ!
Опустим же завесу милосердия над завершением этой сцены.
Глава V
Жук-кусач и его злосчастная жертва
Около половины одиннадцатого надтреснуто зазвонил колокол маленькой церкви, и прихожане стали сходиться на утреннюю службу. Ученики воскресной школы разбрелись по церкви, заняв места рядом с опасавшимися оставлять их без присмотра родителями. Явилась и тетя Поли. Том, Сид и Мэри уселись рядом с ней, — Тома поместили у самого прохода, сколь возможно дальше от открытого окна с его соблазнительными летними видами. И проход также заполнили люди — видавший лучшие времена престарелый, вконец обедневший почтмейстер; мэр с супругой — ибо в городке имелся, помимо прочих ненужностей, и мэр; мировой судья; сорокалетняя вдова Дуглас, красивая, умная, щедрая, — стоявший на холме особняк этой добросердечной, состоятельной женщины был единственным в городке дворцом, самым гостеприимным и самым расточительным, когда дело доходило до празднеств, коими мог похвастаться Санкт-Петербург; согбенный и дряхлый майор Уорд и его супруга; адвокат Риверсон, новая знаменитость городка, переселившаяся сюда из дальних краев; первая здешняя красавица со свитой разряженных, все сплошь батист и ленты, покорительниц сердец; а за ними и все, какие только имелись в городке, молодые клерки, стоявшие поначалу, покусывая набалдашники своих тростей, в вестибюле — полукруглой стеной напомаженных, глупо ухмылявшихся ухажеров, — пока все до единой девицы не прошли сквозь их строй; самым же последним явился Образцовый Мальчик, Уилли Мафферсон с матушкой, которую он окружал таким вниманием и заботой, точно она была изготовлена из хрусталя. Он всегда приводил свою матушку в церковь и всегда был гордостью здешних матрон. Мальчишки же его ненавидели — уж больно он был хороший. К тому же, им то и дело тыкали этим типчиком в нос. Как и во всякое воскресенье, из заднего кармана его брюк свисал — якобы ненароком — хвостик белого носового платка. У Тома платка отродясь не водилось и потому владельцев их он почитал хлыщами.