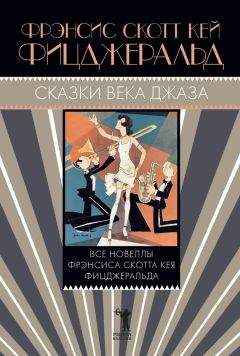Френсис Фицджеральд - Отбой на заре. Эхо века джаза (сборник)
– Я – твой муж, – едва не плача, воскликнул Дуду. – Самый счастливый человек на свете!
– До войны его дядя был принцем Чех-Ганза, – пояснила Эмили; в ее голосе слышалась музыка. – С тех пор тут была республика, но в крестьянской партии захотели перемен, и Дуду оказался ближайшим наследником. Но я бы не согласилась выйти за него, если бы он не настоял на титуле короля, а не принца!
Бревурт провел рукой по вспотевшему лбу:
– Ты хочешь сказать, что это – факт? Эмили кивнула:
– Парламент проголосовал сегодня утром. И если вы дадите нам на время ваш шикарный лимузин, сегодня же вечером мы устроим торжественный въезд в столицу.
IVДва года спустя мистер и миссис Блэйр, а также двое их детей стояли на балконе номера лондонского отеля «Карлтон» – именно так управляющий отелем рекомендовал наблюдать за шествием королевских кортежей. Вдали, со Стрэнда, слышались фанфары, а сейчас, наконец, показалась цепочка малиновых мундиров первых всадников гвардии.
– Мамочка, – спросил мальчик, – а тетя Эмили – королева Англии?
– Нет, солнышко, она королева маленькой далекой страны, но когда она приезжает сюда, то передвигается с кортежем королевы.
– А-а-а…
– Благодаря магниевым месторождениям, – сухо добавил Бревурт.
– А она была принцессой до того, как стала королевой? – спросила девочка.
– Нет, милая, она сначала была американской девочкой, а затем стала королевой.
– А почему?
– Потому что все остальное казалось ей слишком мелким, – ответил отец. – Представь себе, однажды она чуть было не вышла замуж за меня! А что бы сделала ты – вышла за меня или стала королевой?
Девочка задумалась.
– Вышла бы за тебя, – ответила она вежливо, но неуверенно.
– Хватит, Бревурт, – сказала ее мать. – Вот они!
– Я их вижу! – воскликнул мальчик.
Уличная толпа с поклонами расступалась перед кавалькадой. Показались еще гвардейцы, отряд драгун, всадники эскорта, а затем у Оливии перехватило дыхание, и она вцепилась в перила балкона, увидев между двойной цепью лейб-гвардейцев пару неторопливо перемещавшихся огромных малиново-золотых карет. В первой находились царственные монархи, их костюмы сияли от обилия лент, крестов и звезд, а во второй ехали их царственные супруги, старая и юная. Зрелище было подернуто романтическим ореолом, всегда источаемым древней империей, владевшей половиной мира, ее парусниками и церемониями, ее пышностью и символами; и толпа чувствовала это, и негромкий ропот восхищения катился перед кортежем, превращаясь в громкое приветственное ликование. Обе дамы раскланивались направо и налево, и хотя мало кто знал, что это за вторая королева, заодно приветствовали и ее. Через некоторое время великолепная процессия миновала улицу под балконом и скрылась из вида.
Когда Оливия отвернулась от окна, в ее глазах показались слезы.
– Довольна ли она, Бревурт? Счастлива ли она с этим ужасным коротышкой?
– Ну, она ведь получила то, что хотела, правда? А это уже кое-что!
Оливия глубоко вздохнула.
– Она так прекрасна, – расплакалась она, – так прекрасна! Она всегда трогала меня до слез, даже когда я была от нее в ярости!
– Глупости, – сказал Бревурт.
– Да, наверное, – прошептала Оливия. Но ее сердце, окрыленное беспомощным обожанием, летело за кузиной еще полмили, прямо до ворот дворца.
Семья против ветра
Двое мужчин ехали в автомобиле вверх по склону холма; впереди сияло кроваво-красное солнце. Окружавшие дорогу хлопковые поля были голые и поблекшие, сосны стояли неподвижно – ветра не было совсем.
– Когда я трезвый, – говорил доктор, – то есть абсолютно трезвый, я вижу мир совсем не так, как ты. Я словно один мой приятель, у которого один глаз видел хорошо, а второй – плохо; он заказал очки, чтобы и второй глаз видел лучше. В результате он стал видеть солнце в форме эллипса, по дороге пройти не мог, потому что все время падал в кювет, – пришлось ему эти очки выбросить. Учитывая, что большую часть дня я провожу под полным наркозом, я теперь берусь только за ту работу, которую точно смогу выполнить в этом состоянии.
– Ну, да, – согласился его брат Джин, чувствуя себя неловко.
Доктор сейчас был слегка навеселе, и Джин никак не мог придумать, что бы такое сказать, чтобы перейти к делу. Как и у большинства южан «из простых», он впитал с молоком матери глубоко сидевшую внутри него учтивость, характерную для всех жителей этого края вспыльчивых и страстных характеров; предмет разговора сменить было нельзя, пока не наступит хотя бы мгновение тишины, а Форрест все никак не умолкал.
– Я либо счастлив, либо в печали, – продолжал он. – Спьяну посмеиваюсь либо плачу, а когда замедляюсь, жизнь вокруг услужливо ускоряется; поэтому, чем меньше меня в ней, тем веселее становится это кино, в котором я участия не принимаю. Я навсегда утратил уважение своих собратьев, но отдаю себе отчет в том, что у меня наблюдается компенсирующий цирроз эмоций. И поскольку мои чувства и моя жалость более ни на что не направлены, они просто изливаются на все, что попало, так что я стал на редкость хорошим парнем – гораздо лучше, чем когда был хорошим врачом.
Когда после поворота дорога пошла прямо и Джин увидел вдалеке свой дом, он вспомнил лицо жены, когда она добилась от него обещания. Больше он ждать не мог:
– Форрест, мне надо с тобой поговорить…
Но в этот момент доктор неожиданно затормозил перед маленьким домиком, стоявшим за небольшой сосновой рощицей. На крыльце играла с серой кошкой девчонка лет восьми.
– В жизни не видел такой милой девочки! – сказал доктор Джину, а затем обратился к девочке серьезным тоном: – Элен, не нужны ли твоей кошечке какие-нибудь таблетки?
Девочка рассмеялась.
– Я даже не знаю, – с сомнением в голосе ответила она. Она только что играла с кошкой в совсем другую игру и к этому вмешательству была не готова.
– Кошечка звонила мне сегодня утром по телефону, – продолжал доктор, – и сказала, что мамочка совсем о ней не заботится; она попросила меня поискать для нее сиделку в Монтгомери.
– Она не звонила! – Девочка возмущенно прижала кошку к себе; доктор достал из кармана монетку и бросил ее на ступеньки.
– Прописываю хорошую порцию молока, – сказал он, заводя машину. – Доброй ночи, Элен!
– Доброй ночи, доктор!
Когда они отъехали, Джин попробовал снова.
– Послушай, остановись-ка, – сказал он. – Вон там, чуть подальше… Здесь!
Доктор остановил машину, и братья посмотрели друг другу в глаза. Они были похожи: оба обладали крепким сложением, аскетичными чертами лица, обоим было за сорок; отличие было в том, что очки доктора нисколько не скрывали слезящихся, с красными прожилками, глаз алкоголика, вокруг которых расходились густые городские морщины; у Джина же морщины напоминали о бескрайних полях, стропилах и столбах, подпирающих деревенский сарай. Глаза его были яркого и теплого голубого цвета. Но самое резкое отличие было в том, что Джин Дженни был «малограмотным», а доктор Форрест Дженни, несомненно, «образованным».
– Ну и? – сказал доктор.
– Ты ведь знаешь – Пинки вернулся домой, – сказал Джин, глядя на дорогу.
– Да, я слышал, – уклончиво ответил доктор.
– Он ввязался в драку в Бирмингеме и получил пулю в голову. – Джин умолк. – Мы пригласили доктора Берера, потому что подумали, что ты вряд ли… Ты вряд ли…
– Да, я вряд ли бы взялся, – вежливо подтвердил доктор Дженни.
– Но вот что, Форрест… Вот что я хотел тебе сказать… – В голосе Джина появилась настойчивость. – Ты ведь все знаешь – ты сам часто говорил, что доктор Берер ничего не смыслит. Черт! Я и сам всегда так считал! Он сказал, что пуля давит… Давит на мозги, и он не сможет ее извлечь, не вызвав кровоизлияния, и еще он сказал, что не знает, сможем ли мы довезти его до Бирмингема или Монтгомери, так он плох. Доктор ничем не помог. И мы хотели…
– Нет! – ответил брат, покачав головой. – Нет.
– Я просто прошу тебя взглянуть на него и сказать нам, что делать, – взмолился Джин. – Он без сознания, Форрест. Он тебя не узнает; ты его тоже не узнаешь. Просто мать очень уж убивается.
– Она находится во власти примитивного животного инстинкта. – Доктор достал из кармана фляжку, наполненную местной алабамской кукурузной водкой пополам с водой, и отпил глоток. – Мы с тобой оба знаем, что этого мальчишку следовало утопить сразу же, как только он родился.
Джин вздрогнул.
– Да, он плохой человек, – согласился он, – но… Не знаю, как объяснить… Представь, он лежит дома, без…
Как только кровь разнесла алкоголь по всему телу, доктор ощутил порыв: ему захотелось что-нибудь сделать; не идти наперекор своему убеждению, разумеется, а совершить некий жест, чтобы доказать себе, что его умирающая, но все еще не сдавшаяся воля обладает некоторой силой.
– Ладно, я его посмотрю, – сказал он. – Я ему не стану помогать, потому что он должен умереть. Хотя даже его смерти будет недостаточно, чтобы искупить то, что он сделал с Мэри Деккер.