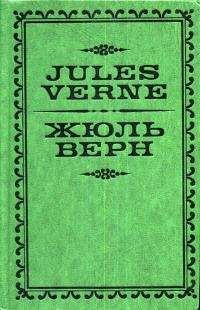Стефан Цвейг - Двадцать четыре часа из жизни женщины (сборник)
Ты не узнал меня ни тогда, ни потом; никогда ты не узнавал меня. Как передать тебе, любимый, все разочарование той минуты; тогда ведь в первый раз я испытала свою судьбу – быть не узнанной тобой. Как изобразить тебе мое разочарование! Подумай, за два года жизни в Инсбруке, когда я каждый миг думала о тебе и только и делала, что рисовала себе картину нашей будущей встречи в Вене, я, смотря по настроению, перебирала самые печальные возможности наряду с самыми упоительными. Все было пережито в воображении; в самые мрачные минуты я представляла себе, что ты оттолкнешь меня, отвернешься от меня, потому что найдешь меня ничтожной, некрасивой, навязчивой. В своих страстных видениях я вкусила все виды твоей неблагосклонности, твоей холодности, твоего равнодушия; но даже в самые безнадежные мгновения, в минуты, когда я особенно остро сознавала себя недостойной твоей любви, не думала я об этом, самом ужасном: что ты вообще, совершенно не заметишь моего существования. Теперь-то я понимаю, – о, ты научил меня понимать! – что лицо девушки, женщины должно казаться мужчине чем-то крайне изменчивым, потому что оно большей частью представляет собой лишь отражение: то страсти, то детской наивности, то утомления – и расплывается так же легко, как изображение в зеркале. Мужчине легче забыть лицо женщины, чем наоборот, потому что возраст меняет на женском лице игру света и тени, потому что одежда создает для него каждый раз иную рамку. Отвергнутые женщины – самые умудренные. Но я, тогда еще молоденькая девушка, не могла так легко понять твою забывчивость, тем более что, в результате моих непрестанных мыслей о тебе, во мне зародилась какая-то уверенность, что и ты часто вспоминаешь обо мне и ждешь меня; как могла бы я жить, сознавая, что я для тебя ничто, что даже мимолетное воспоминание обо мне никогда не касается твоей души! И это пробуждение под твоим взглядом, показавшим мне, что ни одна струнка в тебе не помнит меня, что ни одна нить воспоминаний не протянута от твоей жизни к моей, было первым падением в действительность, первым предчувствием моей судьбы.
Ты не узнал меня тогда. И когда, через два дня, твой взгляд с известной интимностью охватил меня при новой встрече, ты опять узнал во мне не ту, которая любила тебя и которую ты разбудил, а только хорошенькую восемнадцатилетнюю девушку, встреченную на том же месте два дня назад. Ты посмотрел на меня удивленно и дружелюбно, и легкая улыбка играла на твоих губах. Ты опять прошел мимо меня и, как в тот раз, тотчас замедлил шаг, – я дрожала, я ликовала, я молилась, чтобы ты заговорил со мной. Я чувствовала, что в первый раз я для тебя живое существо. Я тоже пошла тише и не уклонилась от встречи. И вдруг я почувствовала, что ты идешь за мной: не оборачиваясь, я уже знала, что услышу твой любимый голос, в первый раз обращенный ко мне. Ожидание сковывало меня, и я боялась, что мне придется остановиться, с такой силой билось во мне сердце, но в этот миг ты подошел ко мне. Ты заговорил со мной со своей обычной веселостью, словно мы были старые друзья, – ах, ты ведь ничего не подозревал, ты никогда не подозревал о моей жизни! – с такой очаровательной непринужденностью заговорил ты со мной, что я была даже способна отвечать. Мы прошли вдвоем всю улицу. Потом ты спросил меня, не поужинаем ли мы вместе, – я сказала «да». В чем я посмела бы отказать тебе?
Мы поужинали вдвоем в небольшом ресторане – помнишь ли ты, где это было? О нет, ты, наверное, не можешь отличить этот вечер от других таких же, ибо кем я была для тебя? Одной из сотни, случайным приключением, звеном в бесконечной цепи. Да и что могло напомнить тебе обо мне? Я мало говорила, потому что для меня составляло невероятное счастье быть возле тебя, слушать твои слова. Ни вопросом, ни глупым словом не хотела я растратить эти мгновения. Я всегда с благодарностью вспоминаю, с какой полнотой ты осуществил мои благоговейные ожидания, как деликатен ты был, с каким тактом себя держал: без всякой навязчивости, без всяких вкрадчивых нежностей и, с первой же минуты, с такой уверенной, дружеской интимностью, что ею ты победил бы меня, даже если бы я уже давно всей своей волей, всем моим существом не была твоей. Ах, ты ведь не знаешь, какую великую мечту ты для меня осуществил, не обманув моего пятилетнего ожидания!
Было поздно, и мы встали. У выхода из ресторана ты спросил меня, спешу ли я или располагаю еще временем. Как могла бы я скрыть от тебя мою готовность идти за тобой! Я сказала, что у меня еще есть время. Тогда ты, с легкой заминкой в голосе, спросил меня, не зайду ли я к тебе поболтать. «С удовольствием», – повинуясь непосредственному чувству, сказала я и тут же заметила, что поспешность моего ответа не то неприятно, не то радостно, но явно поразила тебя. Теперь я понимаю твое удивление: я знаю, что у женщин принято отрицать эту готовность отдаться даже тогда, когда они горят желанием, принято разыгрывать испуг или возмущение, которые должны быть успокоены настойчивыми просьбами, ложью, клятвами и обещаниями. Я знаю, что, может быть, только те, для кого любовь – профессия, проститутки, ответили бы немедленным согласием на подобное приглашение, или же так могла поступить совершенно наивная молодая девушка. Во мне же это была лишь – как мог ты об этом подозревать? – обратившаяся в слова воля, неудержимое стремление тысячи отдельных дней. Как бы то ни было, ты был удивлен, я начала интересовать тебя. Я чувствовала, что ты во время ходьбы незаметно и удивленно всматриваешься в меня. Твое чувство, это живущее во всех людях магически верное чувство, сразу подсказало тебе, что какая-то тайна, что-то необычное скрыто в этой миловидной, податливой девушке. В тебе проснулось любопытство, и по твоим осторожным, выпытывающим вопросам я заметила, что ты стараешься отгадать эту загадку. Но я уклонилась от прямых ответов: я предпочитала показаться тебе глупой, чем выдать свою тайну.
Мы поднялись к тебе. Прости, любимый, если я тебе скажу, что ты не можешь понять, чем был для меня подъем по этой лестнице, какое я испытывала опьянение, смущение, какое безумное, почти смертельное счастье. Мне и теперь трудно без слез вспоминать об этом, а ведь у меня больше нет слез. Но ты должен понять, что каждый предмет там был как бы пропитан моей страстью и был для меня символом моего детства, моей тоски, – ворота, перед которыми я тысячу раз ждала тебя, лестница, где я прислушивалась к твоим шагам и где впервые увидела тебя, глазок, отделявший меня от мира моих стремлений, коврик перед твоей дверью, где я однажды стояла на коленях, звук открываемой ключом двери, заставлявший меня всегда вздрагивать. Все детство, вся моя страсть сосредоточивались на этом небольшом пространстве; тут была вся моя жизнь, а теперь на меня словно обрушилась буря; все, все исполнилось, и я шла с тобой – я с тобой – по твоему, по нашему дому. Подумай, – это звучит банально, но я не умею иначе сказать, – перед твоей дверью была действительность, тупая, бесконечная повседневность, а за ней начиналось сказочное царство ребенка, царство Аладдина; подумай, что я тысячу раз горящими глазами смотрела на эту дверь, в которую я теперь вошла, опьяненная, и ты догадаешься о том, – только догадаешься, но никогда не поймешь вполне, мой любимый! – что значил в моей жизни этот стремительный миг. Я оставалась у тебя всю ночь. Ты и не подозревал, что до тебя ни один мужчина не прикоснулся ко мне и не видел моего тела. Да и как ты мог подозревать об этом, любимый, если я не оказала тебе никакого сопротивления и подавила в себе чувство стыда, лишь бы ты не мог отгадать тайну моей любви к тебе, которая, наверное, испугала бы тебя, потому что ты ведь любишь только все легкое, невесомое, мимолетное и боишься вмешаться в чью-нибудь судьбу Ты расточаешь себя, отдаешь себя миру и не хочешь жертв. Если я теперь говорю тебе, любимый, что я отдалась тебе невинная, то умоляю тебя: не истолкуй этого неправильно! Я ведь не обвиняю тебя, ты не заманивал меня, не лгал, не соблазнял, – я, я сама пришла к тебе, бросилась тебе на грудь, бросилась навстречу своей судьбе. Никогда, никогда не стану я обвинять тебя, нет, я всегда буду благодарна тебе, потому что как богата, как озарена радостью, как напоена блаженством была для меня эта ночь! Когда я в темноте открывала глаза и чувствовала тебя рядом с собой, я удивлялась, что не звезды у меня над головой, что я не на небе, – нет, я никогда ни о чем не жалела, любимый: этот час искупил все. И я помню, когда ты спал и я слышала твое дыхание, чувствовала твое тело и свою близость к тебе, я плакала в темноте от счастья.
Утром я заторопилась уходить. Мне нужно было попасть в магазин, и я хотела уйти до того, как придет слуга, – он не должен был меня видеть. Когда я, одетая, стояла перед тобой, ты обнял меня рукой и долго смотрел на меня. Было ли это воспоминание, темное и отдаленное, шевельнувшееся в тебе, или просто я показалась тебе красивой и дышащей счастьем? Потом ты поцеловал меня в губы. Я тихонько отстранила тебя и хотела уйти. Ты спросил меня: «Не возьмешь ли ты с собой немного цветов?» Я сказала: «Да». Ты вынул четыре белые розы из голубой хрустальной вазы на письменном столе (о, я знала эту вазу еще с того времени, когда ребенком забралась в твою квартиру). Ты дал мне эти розы, и я целыми днями целовала их.