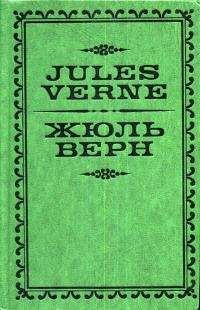Стефан Цвейг - Двадцать четыре часа из жизни женщины (сборник)
И все же я весь день только и делала, что ждала тебя, подкарауливала тебя. На нашей двери был маленький медный глазок, сквозь круглый вырез которого можно было видеть твою дверь. Это отверстие – нет, нет, не смейся, любимый, даже теперь, даже теперь я не стыжусь тех часов! – было моим глазом в мир, там, в ледяной передней, боясь, как бы не рассердить мать, я просиживала в засаде, с книгой в руке, чуть не целыми днями, как натянутая и звучавшая при твоем приближении струна. Я всегда была полна тобой, всегда в напряжении и возбуждении; но тебе было так же трудно заметить это, как напряжение пружины часов, которые ты носишь в кармане и которые терпеливо считают и отмеряют во тьме твои дни и сопровождают тебя на твоем пути неслышными ударами сердца; ведь ты лишь раз за миллионы отстукиваемых секунд бросаешь на них свой беглый взгляд. Я знала о тебе все, знала все твои привычки, все твои галстуки, все твои костюмы, я знала и скоро научилась отличать отдельных твоих знакомых и разделяла их на таких, которые мне нравились, и таких, которые были мне неприятны. С тринадцати до шестнадцати лет я каждый час жила тобой. Ах, сколько глупостей я выделывала! Я целовала ручку двери, к которой прикасалась твоя рука, я стащила окурок сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе, и он был для меня священным, потому что к нему прикасались твои губы. Сотни раз, по вечерам, я под каким-нибудь предлогом выбегала на улицу, чтобы посмотреть, в каких комнатах горит у тебя свет, и таким образом лучше ощутить твое невидимое присутствие. А в те недели, когда ты уезжал, – у меня сердце останавливалось всегда от страха, когда я видела старого Иоганна, идущего вниз с твоим желтым чемоданом, – в эти недели моя жизнь замирала и теряла всякий смысл. Мрачная, скучающая, раздражительная, ходила я по дому и должна была следить за тем, чтобы мать по моим заплаканным глазам не отгадала моего отчаяния.
Я знаю, что все это смешные преувеличения чувств и детские выходки. Мне следовало бы стыдиться их, но я их не стыжусь, потому что никогда моя любовь к тебе не была чище и пламеннее, чем во время этих детских эксцессов. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе, как я тогда жила тобой, почти не знавшим моего лица, потому что при встрече с тобой на лестнице я, боясь твоего обжигающего взгляда, опускала голову и мчалась мимо, как человек, бросающийся в воду, чтобы спастись от огня. Целыми днями могла бы я рассказывать тебе о тех давно забытых тобой годах, могла бы восстановить каждый день твоей жизни; но я не хочу нагонять на тебя тоску, не хочу мучить тебя. Я только хочу рассказать тебе о прекраснейшем переживании моего детства и прошу тебя не смеяться, что оно так ничтожно, потому что для меня, ребенка, оно означало необыкновенно много. Это было, вероятно, в один из воскресных дней, ты был в отъезде, и твой слуга втаскивал через открытую дверь квартиры только что выколоченные им тяжелые ковры. Старику было тяжело, и я, внезапно набравшись храбрости, подошла к нему и спросила: не могу ли я ему помочь? Он удивился, но не стал возражать, и таким образом я увидела – могу ли я высказать тебе, какое мной овладело благоговение! – твою квартиру, – твой мир, – письменный стол, за которым ты привык сидеть, и на нем цветы в голубой хрустальной вазе. Я увидела твои шкафы, твои картины, твои книги. Это был лишь воровской, украдкой брошенный взгляд в твою жизнь, потому что верный Иоганн, несомненно, не позволил бы мне много разглядывать, но я этим единственным взглядом впитала в себя всю атмосферу твоего гнезда и запаслась пищей для своих бесконечных грез о тебе наяву и во сне.
Это событие, этот быстрый миг был счастливейшим в моем детстве. Я хотела рассказать тебе о нем для того, чтобы ты, не знающий меня, начал наконец догадываться, как человеческая жизнь горела и сгорела для тебя. Об этом часе я хотела рассказать тебе и еще о другом, ужаснейшем часе, который, увы, последовал очень скоро за этим. Как я тебе уже говорила, я ради тебя забыла обо всем, не слушалась матери и ни на кого не обращала внимания. Я не заметила, что один пожилой господин, купец из Инсбрука, отдаленный родственник матери, начал часто бывать и засиживаться у нас, мне это было только приятно, потому что он иногда приглашал маму в театр и я могла оставаться одна, думать о тебе, подстерегать тебя, а это было моим высшим, моим единственным счастьем. И вот однажды мать с некоторой торжественностью позвала меня в комнату и сказала, что хочет серьезно поговорить со мной. Я побледнела и почувствовала, как у меня внезапно начало биться сердце. Не возникло ли у нее подозрение, не догадалась ли она о чем-нибудь? Моя первая мысль была о тебе, о тайне, связывавшей меня с миром. Но мать была сама смущена, она нежно поцеловала меня (чего обыкновенно никогда не делала) раз, другой, притянула меня к себе на кушетку и начала, запинаясь и смущаясь, рассказывать, что ее родственник-вдовец сделал ей предложение и что она, главным образом ради меня, решила его принять. Еще горячей забилось у меня сердце, – только одна мысль внутри отвечала на эти слова, мысль о тебе. «Но мы ведь останемся здесь?» – с трудом пробормотала я. «Нет, мы переедем в Инсбрук, там у Фердинанда чудная вилла». Больше я ничего не слышала. У меня потемнело в глазах. Потом я узнала, что была в обмороке. Я слышала, как мать тихонько рассказывала ожидавшему за дверью отчиму, что я вдруг отшатнулась и, всплеснув руками, рухнула на пол, как кусок свинца. Не могу тебе описать, что происходило в ближайшие дни, как я, слабое дитя, боролась против подавлявшей меня воли. Даже в эту минуту, когда я пишу, у меня при воспоминании об этом дрожит рука. Я не могла выдать свою настоящую тайну, поэтому мое сопротивление казалось просто строптивостью, каким-то злобным упрямством. Никто больше не заговаривал со мной, все совершалось за моей спиной. Для подготовки к переезду пользовались теми часами, когда я была в школе; возвращаясь домой, я всегда находила то ту, то иную вещь проданной или увезенной. На моих глазах разрушалась квартира, а с нею и моя жизнь; и однажды, вернувшись из школы, я увидела, что были упаковщики мебели и все унесли. В пустых комнатах стояли упакованные чемоданы и две складные кровати – для матери и для меня: нам предстояло провести здесь еще одну ночь, последнюю, а утром мы уезжали в Инсбрук.
В этот последний день я с удивительной ясностью поняла, что не смогу жить вдали от тебя. В тебе одном я видела свое спасение. Что я тогда думала и могла ли вообще в эти часы отчаяния разумно рассуждать, этого я никогда не буду знать, но вдруг – мать куда-то ушла – я вскочила, в платье, в котором только что была в школе, и пошла к тебе. Нет, я не шла сама, какая-то магнетическая сила тянула меня к твоей двери; я вся дрожала и с трудом передвигала одеревеневшие ноги. Я сама не представляла себе, чего я хотела – упасть к твоим ногам, просить тебя оставить меня у себя как служанку, как рабыню. Боюсь, что ты посмеешься над этим невинным экстазом пятнадцатилетней девочки; однако, любимый, ты не стал бы смеяться, если бы знал, как я стояла тогда на холодной лестничной площадке, скованная страхом и все-таки гонимая вперед какой-то неведомой силой, как я, словно отрывая дрожащую руку от тела, заставила ее подняться, и после коротких, но составлявших целую вечность мгновений борьбы нажала пальцем пуговку звонка. Я по сей день слышу резкий, дребезжащий звон и сменившую его тишину, когда сердце мое перестало биться и вся кровь во мне остановилась и прислушивалась, не идешь ли ты.
Но ты не пришел. Не пришел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Иоганн тоже ушел за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, унося в ушах мертвый отзвук звонка, назад в нашу разоренную, опустошенную квартиру и в изнеможении бросилась на какой-то тюк. От пройденных мною четырех шагов я устала больше, чем если бы несколько часов ходила по глубокому снегу. Но под этим утомлением тлела еще не угасшая решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Я клянусь тебе, к этому не примешивалось никакой чувственной мысли, я была еще совершенно наивна, именно потому, что ни о чем больше не думала, только о тебе; я хотела только увидеть тебя, еще раз увидеть. Всю ночь, всю эту долгую, ужасную ночь я прождала тебя, любимый. Как только мать улеглась в постель и заснула, я выскользнула в переднюю и стала прислушиваться, не идешь ли ты домой. Я прождала всю ночь, всю эту ледяную январскую ночь. Я устала, все тело ныло, и нигде не было даже стула, чтобы присесть. Тогда я легла прямо на холодный пол, где сильно дуло от двери. В одном лишь тоненьком платье лежала я на холоде и даже не накрылась одеялом, я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно, руки у меня дрожали; приходилось каждый раз вставать, так холодно было в этом ужасном, темном углу. Но я все ждала, ждала тебя, как свою судьбу.
Наконец – вероятно, было уже около двух или трех часов – я услышала, как отперли внизу ворота, и затем на лестнице раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод, меня обдало жаром, тихонько отворила я дверь, готовая броситься тебе навстречу, упасть к твоим ногам… Ах, я не знаю, чего бы я, глупое дитя, ни наделала тогда. Шаги приблизились, огонек свечи заколыхался по стенам. Дрожа, держалась я за рукоятку двери. Ты это или кто-нибудь другой?