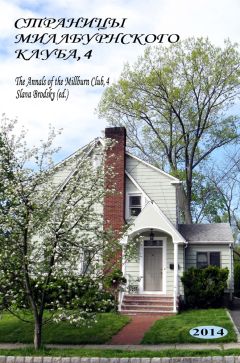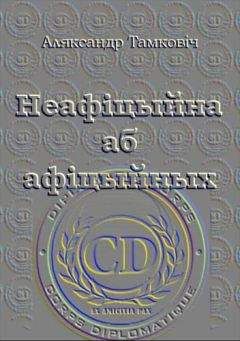Слава Бродский - Страницы Миллбурнского клуба, 3
Возвращаясь к Набокову и Кафке: в «Приглашении», как и в романах Кафки, читателю вроде бы тоже передается это ощущение ускользающего смысла, о котором говорил В.Вейдле. Вот Цинциннату грезится оригинал, испорченную копию которого он обозревает; ему кажется, что он ухватил смысл, но тот постоянно ускользает: «Вот с такого ощущения начинается мой мир: постепенно яснеет дымчатый воздух, – и такая разлита в нем лучащаяся, дрожащая доброта, так расправляется моя душа в родимой области. – Но дальше, дальше? – да, вот черта, за которой теряю власть... Слово, извлеченное на воздух, лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине. Но я делаю последнее усилие, и вот, кажется, добыча есть, – о, лишь мгновенный облик добычи!». Вспомним рассказ «Слово», где герой-рассказчик слышит заветное слово, которое, проснувшись, он забывает. Как и в «Terra Incognita» и в «Приглашении», рассказчик, а с ним и герой, живой или мертвый, просыпаются. Заканчивая чтение, и мы благополучно просыпаемся с ощущением изящно выполненной развязки и легкой грусти. В произведениях же Кафки, ослепительно трагичных, пробуждения и рассеяния ночного кошмара не происходит. Вот окончание рассказа «Приговор»:
«Георг почувствовал, как что-то гонит его из комнаты. Стук, с которым отец рухнул за его спиной на постель, все еще стоял у него в ушах. На лестнице, по ступенькам которой он несся, как по наклонной плоскости, он сбил с ног служанку, которая как раз собиралась наверх для утренней уборки. "Господи!", вскрикнула она и закрыла передником лицо, но он уже скрылся. Он выскочил за ворота, его несло через проезжую часть к воде. Он уже крепко схватился за поручни, как голодный за кусок хлеба. Он перепрыгнул на другую сторону, как превосходный гимнаст, каким он в юности был к родительской гордости. Все еще цепко держась слабеющими руками, он разглядел между спицами ограды омнибус, который легко заглушил бы звук его падения, слабо вскрикнул: "Милые родители, я ведь вас всегда любил", и разжал руки. В этот момент через мост шел совершенно нескончаемый поток машин».
Для того чтобы сравнить технику «демонстрации ужаса» у этих двух авторов, представляется уместным более детально описать метод показа ужасного и в произведениях Набокова. Как уже было сказано, у Набокова «ужасное» возникает из способности человека увидеть мир как бы в отсутствие своего «я»; мир, из которого личность и сознание наблюдающего его индивида вычтены; мир, «каков он есть на самом деле». Происходит отчуждение сознания от самого себя, разложение, или раздвоение, личности, и сознание будто наблюдает себя со стороны как механическую куклу: при этом привычные предметы человеческого обихода «расчеловечиваются». Для художественного воссоздания таких ситуаций Набоков, следуя толстовской традиции, использует технику «остранения», или, пользуясь его собственным выражением, прием «художественного сдвига значения», «диссоциации» (см. первый раздел). Интересно сравнить описание ужаса в незаконченном рассказе Толстого «Записки сумасшедшего» и в рассказе Набокова «Ужас». Первые приступы ощущения ужаса возникают у героя рассказа Толстого в детстве, в результате открытия им того, что люди могут не любить друг друга, и усиливаются после услышанных им евангельских историй о мучениях Христа. У героя Набокова первый опыт ужаса – это искаженный образ наклонившегося к нему лица матери, воспринятый им при пробуждении как перевернутый мир, лицо «с усиками, вместо бровей». У героя Толстого ужас возвращается в зрелом возрасте от сознания того, что его жизнь не имеет смысла, его «я» само себе опротивело: умирать страшно, но и жизнь бессмысленна, жить стало неинтересно, герой воспринимает себя как «другого», свое бытие – как небытие. У Набокова, как мы видим, «демонстрация» ужаса происходит на уровне «чистой» экзистенции, без привлечения категорий этики и религии – что, видимо, отражает отличие его восприятия жизни от мироощущения Толстого и в общем усложняет его художественную задачу. Герой Набокова испытывает ужас, вдруг утратив связь с миром: «...я был сам по себе, и мир был сам по себе, – и в этом мире смысла не было. Я увидел его таким, каков он есть на самом деле: я глядел на дома, и они утратили для меня свой привычный смысл; все то, о чем мы можем думать, глядя на дом... архитектура... такой-то стиль... внутри комнаты такие-то... некрасивый дом... удобный дом... – все это скользнуло прочь, как сон, и остался только бессмысленный облик, – как получается бессмысленный звук, если долго повторять, вникая в него, одно и то же обыкновеннейшее слово. И с деревьями было то же самое, и то же самое было с людьми. Я понял, как страшно человеческое лицо <…> чем пристальнее я вглядывался в людей, тем бессмысленнее становился их облик. Охваченный ужасом, я искал какой-нибудь точки опоры, исходной мысли, чтобы, начав с нее, построить снова простой, естественный, привычный мир, который мы знаем».
Мы не будем заниматься подробным анализом этого рассказа, замечу только, что почти в каждом произведении Набокова героям его приходится преодолевать (успешно или безуспешно) этот ужас небытия, возникающий вследствие «расчеловечивания» мира, отчуждения его от человека и выпадения человека из мира. Каким образом это можно соотнести с кафкианским ужасом? Мне представляется, что Кафка шел по тому же пути отчуждения и «остранения» мира, но в каком-то смысле «пошел дальше», предположив устранение не только сознания героя, но и самого автора. Это как бы наиболее «радикальный» метод отчуждения мира – открепление его не только от сознания персонажа, но и от сознания его творца – Автора.
Анализируя технику создания кошмаров у Кафки и принимая во внимание его «самоустранение» из произведения, можно задаться вопросом: следует ли вообще считать произведения Кафки литературой – ведь сны сами по себе, лишенные организующего воображения и замысла Автора, это действительно бред, который не может называться литературой. К такому выводу и пришел В.А.Кругликов в своем эссе «Пара-сказ о метафизике Ф.Кафки» [29]: «Его тексты отделены от литературной вселенной прозрачной, но очень прочной пленкой, они закрыты и никак не связаны с литературными объектами. Поэтому он даже не дыра в транспарентном мире словесности, который живет как литература, а он вне его упорядоченного устройства или его беспорядочного хаоса, но главное – он внутренне не связан с теми тропами, которые пролагает в хаосе литературного воображаемого любой художественный артефакт». Поэтому, утверждает автор, перечитывая Кафку, читатель подвергает себя добровольному истязанию: «читать Кафку можно <...> – перечитывать нельзя». Видимо, не иначе как склонностью к мазохизму объясняется противоположный вывод о необходимости перечитывания Кафки у А.Камю, который начинает свое известное эссе об абсурде в творчестве Кафки с фразы «Мастерство Кафки – в умении заставлять перечитывать». Представляется, что отсутствие Автора в произведениях Кафки не означает, что они действительно записаны рукой спящего, как бы в процессе сновидения. Если следовать Борхесу (которого, кстати, В.А.Кругликов выбрал в качестве своего проводника в царство кошмаров), то кошмары Кафки, как и сновидения Набокова, как и любые рассказанные сны, следует признать результатом творческого вымысла автора и, стало быть, продуктом творчества.
С моей же точки зрения, кошмары, рассказанные Кафкой, безусловно, принадлежат к категории снов, изобретенных бодрствованием (то есть выдуманных), а не просто механическим оттиском или протоколом спящего сознания. Для проверки этого утверждения можно воспользоваться указанной уже ранее процедурой мысленного эксперимента: давайте перепишем любой рассказ Кафки так, чтобы устранить все элементы кошмара, оставив только фактическую канву повествования (для этого, разумеется, рассказчику придется переписать старые и добавить некоторые новые ремарки, объясняя поведение отца, что-то вроде «у него и раньше случались неожиданные перепады настроения, когда он в начале разговора словно бы впадал в детство, а потом вдруг начинался один из тех буйных припадков, которые обычно завершались вызовом кареты скорой помощи» и т.п.), а затем внесем в этот текст элементы кошмара путем случайных изъятий некоторых сглаживающих «объяснений» рассказчика, усиления неожиданности в «смене декораций» и т.п. Сомнительно, что в результате подобной процедуры можно получить «кафкианский» текст. Могут возразить, что в случае Кафки приемы эти не столь очевидны, как в случае Набокова. Но в этом-то все и дело. Нам говорят, что у Кафки нет литературных приемов, нет и литературного замысла, нет творчества. Созданные им тексты якобы представляют собой результат случайной работы абсурда, как в реальном сне, где отсутствует «временная протяженность»: «картинки кошмара наползают друг на друга, натуральная последовательная смена и появление тех или иных персонажей, одушевленностей, объектов действия в кошмарах случайно – они появляются неизвестно когда и неизвестно где и откуда». Но этот случайный механизм, как и любой нетворческий случайный процесс, безусловно, можно имитировать и моделировать алгоритмически, посредством наложения и перемешивания определенных «образов-картинок». Для этого нужно лишь ввести соответствующие этому перемешиванию правила; и вот представим, что мы создали такой «генератор Кафки». Станет ли В.А.Кругликов утверждать, что подобную сгенерированную продукцию можно теперь отдать на разработку следующему поколению кафковедов, которые обнаружат в ней признаки гениальности? Да и было бы весьма непросто сгенерировать текст «Приговора» с неожиданным появлением этой старой газеты «с уже совершенно неизвестным Георгу названием» в постели, газеты, которая до этого как бы случайно упоминалась в рассказе несколькими страницами ранее, в момент появления Георга в комнате отца: «Отец сидел у окна в углу, всячески украшенном памятными вещицами покойной матери, и читал газету, глядя на нее искоса и пытаясь тем самым приспособить свои слабеющие глаза». Еще более сложно было бы обучить компьютерную программу воспроизвести метафору, сравнивающую всплывание (быть может, ложных) воспоминаний в сознании Георга и их исчезновение, с тем, что как будто «кто-то продернул короткую нитку сквозь игольное ушко». Таким образом, как мне представляется, «отсутствие» автора у Кафки является скорее литературным приемом, чем признаком отсутствия такового. В контексте данного эссе, может быть, уместно поставить и такой вопрос: является ли Кафка творцом с точки зрения критерия литературного творчества самого Набокова? Как известно, ответ на этот вопрос утвердительный, поскольку Набоков не только ставил Кафку (и, в частности, его «Превращение») в ряд высших достижений литературы XX века, но, что любопытно, его знаменитая формула искусства «красота плюс жалость – вот наиболее близкое к определению искусства, что мы можем предложить» [22, с. 325], была им высказана именно в связи с анализом творчества Кафки.