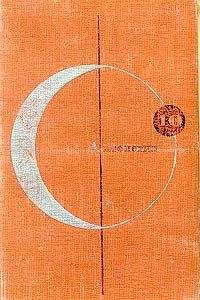Александр Янов - Россия и Европа- т.2
Да, «отрезать» Россию от Европы — эту мысль Николая Уваров разделял. Объявить Европу «будущим трупом», это пожалуйста. Заставить молодежь поголовно и в обязательном порядке читать «Москвитянин», а, скажем, не «Отечественныезаписки» со статьями Белинского — превосходная идея. Более того, можно даже предположить, что в этом, собственно, и состоял долгосрочный уваров- ский план радикального перевоспитания молодежи империи.
Пусть поколение, которое сейчас в университетах, безнадежно испорчено либеральным александровским наследством. Пусть оно потеряно для России. Ограничим ему доступ в университеты, запретим ему поездки за границу, сделаем недоступными для него иностранные книги. Зато поколение, которое придет ему на смену, воспитанное на «Москвитянине» в духе статьи Шевырева, будет истинно национальным, раз и навсегда освободится от европейской заразы. Таким образом мы и добьемся решительного перелома в настроениях молодежи и лица перед Европой не потеряем. Воттогда и расцветут по-настоящему наши университеты, но уже в том, «неповторимо своеобразном русском духе» (о котором, заметим в скобках, и сегодня тоскует Боханов).
124 «Москвитянин», 1841, № 1, с. 247.
Глава четвертая «Процесс против рабства» «Внутреннее 235
закрепощение»
Если и вправду таким был долгосрочный план Уварова, Николай его в 1849 году разрушил, задумав упразднить университеты, как некогда пытался он запретить образование крестьянским детям дабы «не развивать в них круг понятий, не свойственных их состоянию». Тогда его отговорил Кочубей, и причем тем же самым аргументом, который теперь казался крамолой солдафону Бутурлину (и, между прочим, М.А. Корфу, который тоже был членом знаменитого бутурлинского комитета). Но теперь уже не было ни Кочубея, ни Сперанского, никого, кто мог бы отговорить императора от потери лица.
Так, наверное, должен был рассуждать, подавая в отставку, Уваров. Идея Шихматова, что можно сохранить университеты, заменив в них европейские науки московитским богословием, ему совершенно очевидно в голову не приходила. Другое дело, что идея эта была вполне в духе его собственной доктрины, первой в послепетровской России попытки навязать стране антиевропейскую моноидеологию. Между тем, судя по реакции Николая на записку Шихматова, именно это и нужно было императору. Если уж «отрезаться» от Европы, так до конца отрезаться, создав в России то, что много десятилетий спустя евразийцы назовут «идеократией», а Сталин реализует. Иначе говоря, подчинить молодежь не только страхом, но и идеей. Говоря на ученом жаргоне, Николай попытался интроецировать свою национальную идею в самый дух народа, превратить её в «архетип сознания», как сказал бы В.А. Найшуль, — и таким образом увековечить. Причем, сделать это немедленно, одним ударом, еще при своей жизни.
Нет, я'вовсе не утверждаю, что император так уж ясно всё это себе представлял. В конце концов происходило дело в 1849 году и слишком много было в Николае от прапорщика. Но именно так самодержец, надо полагать, чувствовал. Уж в этом-то он, предпочтя Шихматова Уварову, сомнений не оставил.
Глава четвертая
«Процесс против рабава» ^ g |_|yjp g |_| |_| gg
закрепощение» вот почему
я думаю, что формула Герцена сильно упрощает ситуацию николаевского царствования. Приняв её, мы просто не поймем, что произошло с Россией после Николая. Не поймем последствий первого со времен Московии «идеократического» эксперимента над Россией, последствий, которые живы еще и сегодня. Ибо на самом деле противостояло тогда «внутреннему освобождению» вовсе не одно «наружное рабство», но и то, что можно назвать «внутренним закрепощением».
Начнем с того, что каждый, кому случилось хоть бегло просмотреть статью Шевырева, тотчас увидит, что нет в ней ни одной фальшивой ноты. Человек действительно напуган: статья пронизана искренним ужасом перед «трупным ядом», которым якобы готова заразить Россию издыхающая Европа. И никаким «наружным рабством» объяснить столь интимное чувство нельзя. И тем более нельзя объяснить им тот неподдельный восторг, с которым, как мы еще увидим, встретило статью петербургское общество. Короче, совершенно в этом эпизоде очевидно, что антипетровский переворот Николая не прошел даром даже для серьезных, просвещенных умов (Шевырев был профессором Московского университета). В обществе стремительно распространялось новое, московитское, если хотите, мироощущение.
Зародилось оно, собственно, еще во времена наполеоновской гегемонии в Европе. И тогда уже, как мы видели, готово было русское общество рассматривать конфронтацию с Наполеоном как религиозную войну с безбожной Европой. Нов царствование Александра, когда власть и слышать об этом не хотела, у московитского мироощущения не было никаких шансов оформиться в самостоятельную антиевропейскую идеологию. Другое дело при Николае, когда сама власть резко изменила культурно-политическую ориентацию страны, зафиксировав это изменение в доктрине Официальной Народности.
Знаменитое стихотворение Николая Языкова «К не нашим» очень точно отражает эту метаморфозу. Впервые в послепетровской России, почувствовав под ногами твердую, государственную почву, московитское мироощущение заматерело, если можно так выразиться, стало агрессивным. Оно теперь жаждало крови тех, с кем связывал Герцен «внутреннее освобождение». Отныне эти люди представлялись предателями Святой Руси и, совсем как в XVII веке, «богомерзкими» еретиками.
О вы, которые хотите Преобразить, испортить нас И обнемечить Русь, внемлите
Простосердечный мой возглас! Вы, люд заносчивый и дерзкий, Вы, опрометчивый оплот Ученья школы богомерзкой, Вы все — не русский вы народ. ...Русская земля От вас не примет просвещенья, Вы страшны ей. Вы влюблены В свои предательские мненья И святотатственные сны. ...Умолкнет ваша злость пустая, Замрет проклятый ваш язык!
Крепка, надежна Русь святая И Русский Бог еще велик!
Любопытно, что автор, перепечатавший эти стихи в «Русском обозрении» полвека спустя, уже при Александре III, сопроводил их таким комментарием: «Западничество как вероучение не может более у нас существовать... Ему давным-давно пропета отходная и царствование императора Александра III сделало навсегда невозможным его возрождение».125
И опять-таки нету нас никаких оснований сомневаться в абсолютной искренности Языкова. Это вам не какой-нибудь Булгарин, промышлявший в тогдашней «биржевой литературе». Так же неподдельно, как напугало Шевырева «тлетворное дыхание» Европы, ненавидел Языков эту, по сегодняшнему выражению, «пятую колонну» Запада в новой Московии. И снова был это крик души, лишь косвенно связанный с «наружным рабством».
Именно в условиях этого неустойчивого равновесия между «внутренним освобождением» и московитским пафосом Языкова и Шевырева (который мы, собственно, и назвали «внутренним закрепощением») и могла прийти Уварову мысль, что, подкрепив этот пафос радикальным перевоспитанием гимназической молодежи, удастся, в конце концов, и впрямь «сделать навсегда возрождение западничества невозможным». Если действительно таков был замы-
«Русское обозрение», 1897, февраль, с. 641-642.
сел Уварова, как дает нам основание думать его реакция на статью Шевырева, то это действительно объясняет многое. В частности и то, почему, покуда Уваров был у руля, «не наших» продолжали печатать и почему никому не приходила в голову мысль об упразднении университетов. Просто проектУварова был, как мы уже говорили, долгосрочным, подразумевая своего рода гамбит: жертву современным поколением молодежи (безнадежно увлеченным «внутренним освобождением») ради следующего, истинно национального поколения, которое всецело посвятило бы себя прославлению Святой Руси и русского Бога.
Косвенно подтверждается это резким поворотом в николаевской политике «народного просвещения». Ведь после отставки Уварова «не наших» и впрямь перестали печатать, а университеты терпелись лишь как заведения богословские. Теперь от цензоров официально требовали не ограничиваться цензурой, но и буквально, как bXVII веке, стать исполнителями «слова и дела государева». Вот замечательный документ, утвержденный Николаем и разосланный от имени Бутурлина:
«принимая во внимание, что действия цензоров ограничиваются единственно тем, что они возвращают писателям преступные сочинения или уничтожают в них некоторые места, а сами писатели остаются не только без взыскания, но даже в неизвестности правительству, тогда как многие из них в сочинениях своих обнаруживают самый вредный образ мыслей, полагаем, что было бы полезно, дабы цензоры те из запрещенных ими сочинений, которые доказывают в писателе особенно вредное в политическом или нравственном отношении направление, представляли негласным образом в III отделение собственной е.и.в. канцелярии с тем, чтобы последнее, смотря по обстоятельствам, или принимало меры к предупреждению вреда, могущего происходить от такого писателя, или учреждало за ним наблюдение».126 Одним словом, понятно, почему Грановский позавидовал Белинскому, умершему в 1848 году — еще до начала всей этой вакханалии. Впрочем, уж Белинского-то точно не печатали бы после отставки Уварова. Мало того, еще и «приняли бы меры к предупреждению вреда, могущего происходить оттакого писателя». Понимаете теперь, откуда паническая запись в дневнике Никитенко: «Спасай, кто может, свою душу!» Писателей «особенно вредного в политическом и нрав-