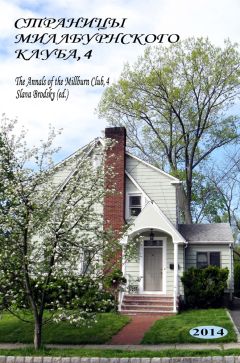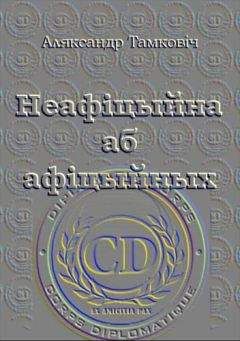Слава Бродский - Страницы Миллбурнского клуба, 3
Таким образом, у читателя создается ощущение, что то, что ему казалось поначалу частным бредом Цинцинната, теряет локальный характер и постепенно захватывает всех участников, включая и рассказчика; они как бы все снятся одному сновидцу, находящемуся за пределами повествования, – по-видимому, в том же месте, где находится и сам Автор, который прячется в тени подразумеваемого сновидца и приводит в действие весь этот кажущийся случайным, а на самом деле идеально продуманный и слаженный механизм.
Разбирая этот и другие подобные примеры хитросплетений в «Приглашении», американский набоковед Дж.Конноли дает весьма сходную с моей интерпретацию отношений между повествователем, Цинциннатом и другими персонажами, которую он иллюстрирует с помощью диаграммы, воспроизведенной на рис. 2а [13, c.181].
Рис. 2. Схема взаимоотношений сновидца, повествователя и героев в романе «Приглашение на казнь»: a) по Дж.Конноли; б) по версии автора статьи
Пожалуй, на этой схеме не хватает еще одной, высшей точки, где расположен сам Автор-творец, который и создал все остальное, включая находящегося за пределами текста «сновидца». В известной степени, присутствие автора показано на схеме Дж.Конноли расщеплением Цинцинната на Цинцинната-героя, когда он говорит от себя, и на Цинцинната-автора, когда как бы через героя в текст проникает авторский голос. Впрочем, Цинциннат-автор достаточно автономен и независим от Автора-творца, он «сам по себе», а Автор-творец проникает в «роман-крепость», порой скрываясь под личиной своего «соавтора» Цинцинната, а порой просачиваясь сквозь слово рассказчика.
В моем варианте диаграммы (см. рис. 2б) Автора и Цинцинната соединяет пунктирная линия, намекающая на непосредственные (минуя рассказчика!) и двусторонние отношения между ними (Цинциннату иногда дозволяется насмехаться над создавшим его Автором-творцом, или скорее над его физической оболочкой, – единственным реальным существом в произведении, физическая смерть которого неизбежна) и на способ спасения Цинцината – через открывшуюся маленькую калитку. Кроме того, я соединил повествователя с персонажами стрелками различной толщины, соответствующей степени их «родства»: наиболее жирной – с самим Цинциннатом, поскольку рассказчик наиболее близок Цинциннату, временами как бы сливаясь с ним. Представляется важным, что сновидец находится за пределами текста – это создает необыкновенно мощный эстетический эффект: у книги появляется как бы новое (третье) измерение, некая запредельная идеальная точка, где выправляются все искажения плоского мира, в котором пребывают герои – и вот существование этого запредельного места как бы служит доказательством бытия Творца. В этой «идеальной точке» читатель без труда обнаруживает настоящего автора («Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия», мерещится Цинциннату). Эту «точку», безусловно, можно интерпретировать и как призрак «потустороннего» (В.Александров), или «инобытия» (М.Шульман), возникающего, правда, как результат тонкой игры литературных приемов: путем тщательно расставленных зеркал автор, играя с читателем, и прячется от него, и одновременно намекает на свое присутствие, «является» читателю, таким образом эстетизируя потустороннее и превращая его в игру приемов (на что сразу обратила внимание эмигрантская критика, в первую очередь Вл.Ходасевич).
Безусловно, читатель (некий «идеальный читатель») является учтенной фигурой и активным участником этой литературной игры и поэтому также присутствует на моей диаграмме. О взаимоотношении писателя и читателя Набоков сам неоднократно говорил в своих мемуарах, эссе и лекциях. Вот один из созданных им образов: Читатель и Автор карабкаются по противоположным склонам холма «<…> и там, на ветреной вершине, [Автор – И.Л.] встречает – кого бы вы думали? – счастливого и запыхавшегося читателя, и они кидаются друг другу в объятия, чтобы уже вовек не разлучаться – если вовеки пребудет книга» (см. «О хороших читателях и хороших писателях» [22, c. 25]). Другая, более известная, набоковская метафора уподобляет отношения между автором и читателем отношениям между составителем и решателем шахматных композиций, когда игра на шахматной доске ведется не между «белыми» и «черными», а между автором задачи и ее разгадчиком; при этом позиции, возникающие на доске, зачастую абсолютно невозможно себе представить в реальной шахматной игре; внешне привлекательные решения могут оказаться ложными ходами, заготовленными автором для «читателя-умника», а слишком очевидный, и от этого пренебрегаемый читателем «тихий ход» может как раз вести к решению; и вот за силуэтами шахматных фигур проступают очертания и узоры «тем иных» – в особом, набоковском значении слова «тема» (см. [11]), напоминающем его смысл в музыкальных композициях, а не, скажем, тем, понимаемых как платоновские идеальные формы-архетипы, аллегории или вечные сюжеты древних мифов (и, разумеется, не в смысле «общих идей», отвращающих Набокова). В свете сказанного мне кажется несколько искусственным противопоставление Набокова как «по преимуществу автора приемов», не имеющего какой-то своей «особой» темы, Набокову, главной темой которого было (по известному заявлению вдовы писателя) проникновение в потустороннее. Одно другому не мешает, и тема «инобытия» у Набокова также реализуется как блестящая игра литературных приемов.
Интересно, что большинство исследователей-набоковедов проигнорировали интерпретацию «Приглашения» как «мета-сна» – возможно, они просто сочли ее недостаточно убедительной или слишком тривиальной. Так, Т.Смирнова в статье о «Приглашении» [21], разбирая вышеприведенный пассаж со столом и критикуя точку зрения Конноли, рассуждает, что после неудачной попытки Цинцинната пододвинуть стол можно предполагать, что «вся предыдущая сцена происходила, по всей вероятности, в воображении Цинцинната <...>. Все становится на свои места. Но через несколько страниц, в разговоре с адвокатом, Родион упоминает о происшедшем: “Очень жалко стало их мне, – вхожу, гляжу, – на столе-стуле стоят, к решетке рученьки-ноженьки тянут, ровно мартышка квелая…”. Получается, что это все-таки было в действительности, так как Родион не мог знать то, что происходило в воображении Цинцинната. “Наложение” друг на друга разных планов, когда мы не можем с определенностью сказать, что же было на самом деле, является характерной чертой романа». Это верно, мы не можем сказать, что же было «в действительности», но заметим, что как раз Родион очень хорошо «мог знать», что происходит в воображении Цинцинната, поскольку весь этот сонный мир есть как бы порождение единого дремлющего сознания, контролируемого абсолютной властью над текстом Набокова-автора, – из него и вырастают мосты, соединяющие в определенные моменты сознания или псевдосознания иллюзорно независимых персонажей (подобные «телепатические» мосты между персонажами встречаются и у других писателей, скажем у Достоевского, но там они сделаны из иного, менее эфемерного материала). Понятно, что автор намеренно и весьма искусно играет элементами кошмара (подмена действующих лиц, перетекание их друг в друга, отсутствие логического контроля над ситуацией со стороны Цинцинната и рассказчика, нарушения функции памяти) для создания определенных эстетических эффектов. Для того чтобы по достоинству оценить филигранную работу мастера, полезно произвести такой мысленный эксперимент: представим, что в тексте «Приглашения» все «ошибки» повествователя устранены рукой некоего излишне ретивого «корректора». Затем полученный таким образом текст обрабатывается компьютерной программой, которая генерирует и вносит в текст какое-то количество подобных погрешностей, порождаемых «правилами» вроде тех, которые мы видели в только что рассмотренном примере. Скажем, в некоторых предложениях типа «X сказал» Х будет заменен на «тот», приводя к замещению персонажа X случайным персонажем из предыдущего предложения. В результате действительно получится не имеющая эстетической ценности и не несущая никакой смысловой нагрузки словесная каша. Более того, атмосфера ночного кошмара вряд ли будет при этом передана – скорее всего, читатель просто поймет, что по недосмотру корректора были допущены опечатки.
Любопытно и даже несколько удивительно, что сам Дж.Конноли, видимо, оставил свою идею «мета-сна», и в обзорной статье «Скрипка в пустоте (Violin in the void)», опубликованной в редактируемом им же сборнике статей [14], целиком посвященном «Приглашению» (изданном через пять лет после его же анализа повествования в «Приглашении» как протокола сновидения в [13]), вообще не упоминает об интерпретации «Приглашения» как сновидения. Возможно, набоковеды решили, что из сновидений много не выжмешь, и начали «тянуть» из романа более плодоносные жилы, например, разрабатывая его метафизическую и мифологическую интерпретации. В этом направлении было опубликовано несколько замечательных исследований. Например, весьма интересную метафизическую интерпретацию романа – в частности, указанных выше сцен – дает В.Александров в своей книге «Набоков и потусторонность» [18]. В ней он продолжает эстафету исследователя Сергея Давыдова, открывшего в «Приглашении» богатый гностический подтекст (см. его блестящую книгу «Тексты-матрешки Владимира Набокова» [19], а также [20]), и дает еще более широкую интерпретацию «Приглашения» в «метафизическом ключе» – с активным привлечением идей гностицизма и неоплатонизма. (Он поправляет C.Давыдова, справедливо указывая на то, что сам Набоков вряд ли разделял представления гностиков, поскольку вера в человека и в то, что «мир фундаментально хорош», преобладает у Набокова, в то время как, согласно гностическим верованиям, материальный мир изначально «плох» и подлежит уничтожению; следуя Св. Августину и Бергсону, Набоков отказывает злу в самостоятельном бытии, зло – это всегда недостаток чего-то, это ущербное, недовоплотившееся или неполное бытие; оно никем не создается и, следовательно, не подлежит уничтожению, потому что оно не обладает атрибутами существования.) Рассмотрим метафизическую интерпретацию, предложенную В.Александровым для приведенного эпизода с подменами и ошибками рассказчика в следующем пассаже, не лишенном метафизического изящества: «В основе этой взаимозаменяемости [персонажей – И.Л.] лежит метафизика романа: если Цинциннат выбивается из общего ряда своей духовностью, то, стало быть, полное сходство между всеми остальными должно объясняться их бездушием. Похоже, Цинциннат это вполне осознает, адресуясь к окружению так: “призраки, оборотни, пародии”. При этом, однако, нет даже намека, что он заметил случившееся превращение. Не исключено, конечно, что такие подмены есть свойство физического мира, каким он показан в “Приглашении на казнь”, и что в упомянутых сценах повествователь просто фиксирует это свойство. Но ведь в то же время он пренебрегает фундаментальными художественными условностями, причем делает это исподтишка. Так, о повествовательных “ошибках” можно говорить лишь потому, что ни повествователь, ни Цинциннат не отдают себе отчета в происшедшей подмене – во всяком случае, в тексте нет на это никаких указаний. Читатель, таким образом, оказывается в весьма привилегированном положении – он распознает “ошибки” точно так же, как Цинциннат замечает вывихи в окружающем его материальном мире. Ту же мысль можно выразить и иначе: впечатление, будто повествователь утрачивает контроль над участниками действия – что придает особый аромат романной эстетике, – базируется на метафизике всего произведения».