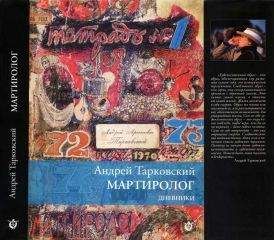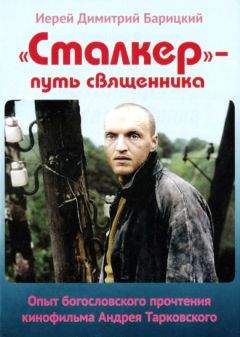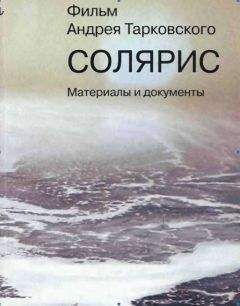Николай Болдырев - Жертвоприношение Андрея Тарковского
Фрейда об Эдиповом комплексе), благоговейно включив его в свой космос и значительно во многих смыслах раздвинув, свободно поставив метафоры и пафос отца внутри своих собственных унисонно-инаковых мифологем. Он искал и нашел женщину, которая бы бросалась на любой и всякий его зов, видя свой смысл в том, чтобы помогать ему "зачерпнуть воды из криницы глубокой", а не только "стоять у колыбели" и вести быт как некую самоценность.
Было и еще одно - важное и трагическое. Брешь эта для младенчески-детского сознания означала внутреннюю трещину и внутренний конфликт между плотью (мать) и духом (отец). В этом нет ничего нового: оппозиция женщины-природы и мужчины-сознания известна и замечательно воссоздана, например, в творчестве и судьбе любимейшего поэта Тарковских - Федора Тютчева. Но знаем ли мы, где корни этого конфликта, столь мощно, скажем, раздиравшего сознание и психику Льва Толстого - любимейшего поэта в прозе? Даже на сознательном уровне Тарковский называл главным конфликтом, который по-настоящему занимает его всю жизнь, конфликт между плотью, плотским началом в человеке и его духом, духовным началом.
И своим творчеством, медитационным своим методом он этот конфликт нейтрализовал (сам, быть может, того не заметив), снял, обнаружив для нас все входящие и исходящие из него смыслы. И что же помогло ему? Каков источник найденной гармонии? Импульс памяти и ощущения себя-младенчествующего. Эпицентр осмысления Всего и придания гармонии Всему - то божество в образе шагающего сквозь травы младенца, которое мы не только видим в "Зеркале", но дыхательные импульсы которого чувствуем во всех лентах Тарковского.
Так что если бы нам удалось подробнейше описать младенчество и детство Андрея Тарковского изнутри его собственных постижений, то в известном смысле это была бы наиполнейшая и исчерпывающая "биография" его духовной вселенной. Ведь и сам он только и делал, что пытался расшифровать тайный код, который вложила в него Неведомая Сила, но который так удивительно общество и канитель взросления пытаются, и не без успеха, стереть.
Река Сугаклея уходит в камыш,
Бумажный кораблик плывет по реке,
Ребенок стоит на песке золотом,
В руках его яблоко и стрекоза.
Покрытое радужной сеткой крыло
Звенит, и бумажный корабль на волнах
Качается, ветер в песке шелестит,
И все навсегда остается таким...
А где стрекоза? Улетела. А где
Кораблик? Уплыл. Где река? Утекла.
Это снова Арсений Тарковский 1933 года, наблюдая за годовалым сыном, вспоминает себя. Полное слияние двух младенчеств. Стояние на золотом песке вечности. И незримый вопрос - откуда? куда?
"Что значит для меня память, связанная с детскими чувствами? Что значит она для меня? Почему она лучший друг и советчик, когда дело касается творчества? Потому ли, что напряжение связи с ней возбуждает твою волю, жажду творчества? Обязательства перед памятью? Не забыть, запомнить навсегда, закрепить, рассказать о своем детстве? О себе, когда мы были бессмертными и счастливыми? Когда все еще было впереди, все возможно...
...Рассказ какой-то про одно и то же,
На свет звезды, на беглый блеск слюды,
На предсказание беды похожий.
И что-то было в нем от детских лет,
От непривычки мерить жизнь годами
И от того, чему названья нет,
Что по ночам приходит перед снами,
От грозного, как ранние года,
Растительного самоощущенья..."
Это Андрей Арсеньевич цитирует стихотворение отца, подбираясь к важнейшему и для себя тоже "растительному самоощущенью", которое до конца дней оставалось для него решающим.
"Я был похож на растение, - писал он, вспоминая младенчество и детство и даже подростковые годы. - На тыкву,
с практическим умыслом выпускающую завивающийся ус, чтобы за что-нибудь уцепиться. Беда в том, что я так ни за что и не цеплялся. Тыква была дефективная... Усы ее не стремились к опоре, а с болезненной напряженностью вздрагивали в мутной парной темноте огородной зелени, лишенные цели..."*
* "Король романтизма" Новалис, с внутренним темпоритмом которого у Тарковских большое сходство, считал, что "среди всех природных форм растение - самая нравственная и самая прекрасная". В мифологии Тарковских вообще много прямых пересечений с йенцами. Скажем, один из любимых предметов их созерцания - "смутные чувства" (die dunkeln GefOhle; dunkel - еще и темный, неясный, неизвестный, туманный, неизведанный). Вакенродер: "...Разве может слабый человек осветить небесные тайны?.. Разве он вправе оттолкнуть смутные чувства, которые спускаются к нему как таинственные ангелы?.."
У Тарковского в стихотворении "Я учился траве, раскрывая тетрадь...": "Я любил свой мучительный труд, эту кладку / Слов, скрепленных их собственным светом, загадку / Смутных чувств..."
Именно "смутными чувствами" живут, следом за их автором, мальчиком, бредущим в громадных растениях, герои Андрея Арсеньевича. Однако смутность их не в том, что они будто бы сентиментально-расплывчаты, мечтательно-неопределенны, нет, совсем напротив - они предельно точны и конкретны, но за ними стоит реальность другого порядка: она не может быть схвачена словами, вербализована и интеллектуализирована, ибо взывает к до-социумной в нас основе. Эти "смутные чувства" выходят на контакт с "в принципе не сказанным". Откуда идут эти интуиции? Из младенчества. Когда мы еще хорошо "помним" Неизвестность, которая нас выпустила.
Усы этой тыквы, в прагматическом смысле "дефективной" (так "дефективен" любой художник и поэт), не устремлялись к практической цели, а созерцали неизвестность мира. Детство, отрочество и даже в известном смысле юность Тарковского были решающим, всезатопляющим образом наполнены растительным пафосом, который есть не только "слабость и гибкость", воспетые им затем в фильмах, особенно в "Сталкере", но и созерцательность как решающая форма общения: вхождение в другой объект, растворение в нем и затем взгляд на мир его глазами.
Тарковский врастал в природу (собственно, не выходя из нее) как созерцатель. Блужданья по окрестностям деревень и сел, где он в летнюю пору жил с сестрой и матерью, составляли главное его занятие. Эта поистине бесконечность детских созерцаний: трав, ветвей, облаков, камней; блуждания в росах в утренних походах на рыбалку, вырезание луков и стрел, палок и шпаг, сабель и кинжалов. А позднее - рисовальные и живописные этюды. И снова - блужданья, странствия и приключения. Мальчик в обществе двух женщин будет с неизбежностью расти отшельником со своими отдельными мечтами, наблюдениями и распахнутыми глазами.
Есть потрясающая фотография, сделанная в 1933 году другом семьи Львом Горнунгом, на которой мама Андрея и годовалый Андрей сидят на "древесной" скамеечке у фантастического (по толщине и мощи ствола, ветвей, по выпуклости и многообразию форм корней), громаднейшего вяза. В снимке есть нечто сказочное и пророчески-мифологическое: крошечный сияющий мальчик на фоне уходящего в небо Мирового Древа; словно бы сам этот мальчик есть часть мирового корневища, словно бы то ли он приник к Древу, то ли Древо жаждет взять у него часть неведомой силы.
Снимок этот даже не символ, а некая реальность, некое свидетельство начала пути Андрея. Будучи взрослым, Тарковский неизменно называл вяз, с котором он впервые познакомился на юрьевецких горах, своим любимым деревом.
Любимой своей книгой взрослый Тарковский называл "Жизнь в лесу" Генри Торо - апофеоз чисто растительного отшельничества, созерцательной философической уединенности. Книга, которая могла бы быть настольной у все того же Новалиса.
"Главное, что я считаю важным для моих сегодняшних занятий кино, - это облик, который врезался в мою память: вода, деревья, леса, поля, дождь, листья, заборы под солнцем, огороды, раскаленные зноем крыши среди деревьев, и все это - словно минутные деления на часах моего детства..."
И в самом деле, упустить, не почувствовать растительную магию в фильмах Тарковского - значит не уловить их нерва, не увидеть их патинно-сияющую ауру. Дело не только в том, что все фильмы режиссера, за исключением, пожалуй, "Соляриса" (почему он, вероятно, и считал его своей неудачей), почти избыточно ландшафтны. Мощные дожди и непреходящие воды, к которым тянутся и в которые "вписываются" герои, это и изначальное материнство мира, прародительство всего живого, и питающее основание растительного царства. Вода и растение. Но - более того. Даже патинно-выщербленные стены и каменные осыпи, даже натюрморты и испорченные, выброшенные человеком вещи обладают у Тарковского странной и необъяснимой растительно-волхвующей магией. Отказавшись участвовать в прагматических человеческих гонках, вещи становятся принадлежными уже иным законам и соответствиям, их опекают другие боги. Те самые, которых так хорошо чувствуют мальчишки, для которых старая, старинная, сломанная вещь - живее и таинственнее, чем новая. Ибо она - ближе к корневищу сказочного вяза.