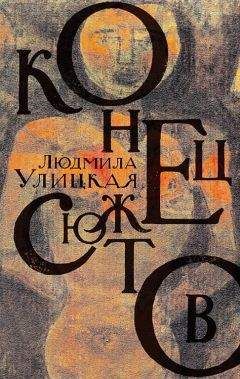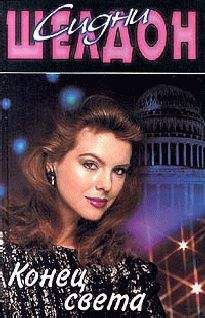Людмила Сидорофф - Любовь, Конец Света и глупости всякие
Забыв о приличиях, народ полез в кассы без очереди. Нагло, впереди всех (пьяных, жуликов, хулиганов и прочих коренных жителей) ломились брутяне, применяя колени и локти, пока не пошли в ход кулаки. Завязались драки, кое-кто без билета прыгал через магнитный барьер, кто-то орал благим матом, когда тяжелые створки ударяли безжалостно в пах. Без стыда и смущения проходя через пропускники, брутяне теснее прижимались к обилеченным пассажирам (прежде всего к особям женского пола), и по станции разносились то ли вопли негодования, то ли восторженный визг. Спускаясь по эскалаторам, брутяне врезались в толпу, пропихивались в вагоны — как попало, в какие попало — и с быстротой электричек разъезжались по всем направлениям Москвы. Из коренных жителей не ведал еще ни один, что через пару дней выйдут на улицы города десятки, вернее, даже сотни дворников с однотипными чертами лиц: широкие скулы, раскосые глаза …
А тем временем в спальном районе, в однокомнатной угловой квартире встрепенулся от всплеска Магии Бог, чье имя нельзя называть. И проснулся уже окончательно.
Незнакомец
У пианиста Эдика был отличный голос, он пел ничуть не хуже Бобби Дарина, хоть и коверкал слова. «Ай эм бикини кусите лайт[57]», — у него выходило. Наверное, еще в школе он учил какой-то другой иностранный язык, а английские слова в песнях запоминал на слух, как говорящий попугай.
Я танцевала с трубачом. Танцевал он классно, хоть иногда пытался прижаться ко мне бедрами, что мне очень не нравилось, но мы весь вечер отплясывали безостановочно. Я думала, Андрей меня хоть чуточку приревнует, а он все это время не спускал глаз с Маргит (так звали девушку из опереточного кордебалета). Как только увидел ее — всё, «умер» мой муж.
Она действительно была необыкновенно хороша, что выражалось не столько во внешности, сколько в манерах. На лице у нее были прыщи, но она умудрялась даже про то, как выводила их, рассказывать так, что вокруг только ахали все. Маргит играла, будто на сцене, и каждое ее движение было — ну, просто супер...
Андрей был в джинсовом костюме, который прислала ему моя мама из Штатов, и тоже был не урод, но и не Цицерон: уболтать Маргит он не мог, да еще от влюбленности утратил дар речи... Танцевал он плохо и приглашать стеснялся. Так что покорить ее он пытался иными средствами. Какими? Денежными, конечно. Вот сколько было у него денег — все истратил немедленно. Купил ей шампанского и цветов. Ну, пока было шампанское, она с ним пила, а потом шампанское кончилось, Маргит потеряла к нему интерес, и Андрей понял —надо еще шампанского. А денег не было больше — ни у него, ни у меня, да он и знал, что бесполезно просить у жены.
А я все танцевала с трубачом, пока мне все не осточертело: танцы, Эдик, который слов песен не понимал, мой муж идиот, нагло ухаживающий за другой женщиной, трубач, льнущий бедрами, и вся эта «сергия». Сказала Андрею, что еду домой. А он обрадовался и заорал немедленно: «Кто хочет мою жену проводить? Платите пятьдесят рублей — и разрешу!» Провожать меня никто не захотел, конечно, да еще за деньги —дураков нет. И в тот момент я почувствовала себя совершенно несчастной.
Я не нужна была никому на той вечеринке и никому в мире, раз уж на то пошло. Даже маме своей не нужна была — ее куда больше интересовала карьера, про папу и вовсе молчу... И трубачу не особо нужна была во время танцев, подумаешь, ушла бы я домой, он пригласил бы еще кого-то. И уж подавно не нужна была своему мужу — он вел себя как дегенерат, и если бы только в тот вечер... Пьянствовал, волочился за каждой юбкой... Если бы у меня был ребенок, я могла бы быть нужной хотя бы ему, но как я могла родить? Андрей уже давно не утруждал себя исполнением супружеского долга. Вот если бы я умерла, то он, наверное, испытал бы шок и, возможно, перестал бы пьянствовать, серьезнее стал относиться бы к женщинам. Ну, или гулять, с кем захочет. И потому я решила самоубиться, сделав, таким образом, для него доброе дело.
Наверное, в тот момент я умом тронулась — не зря же самоубийц кладут в психушку: желание покончить с собой аномально, хотя при этом все кажется совершенно логичным. Например, мой приятель однажды решил повеситься на моей кухне — он был сильно под мухой. Когда я возмущенно потребовала объяснить, почему это вешаться надо у меня дома, он резонно ответил: «А что, мне у себя дома вешаться, что ли? Там у меня мама...» А потом отстегнул свой ремень, прицепил его к крюку, где лампа крепилась, встал на табуретку, засунул голову в петлю и оттолкнулся. Я успела схватить его за ноги, а он, гад, был тяжелый и орал, что я ему помереть не даю спокойно. В конце концов я разозлилась и устала держать его на весу. Он бы завис там, мертвый, но крюк из потолка вывалился —не рассчитан был на такие грузы. Я стала ругаться, что он сломал лампу, повредил потолок и вообще идиот, а он обиделся и ушел. Так что можно было сделать вывод, что повеситься —дело непростое, поэтому я решила тут же, в квартире у Эдика, вскрыть себе вены. И отправилась в ванную.
***
— Танька...
— М-м-м?..
— А ты знаешь, какого у тебя цвета глаза сейчас?
— Не знаю. Наверное, карие, как обычно?
— Нет в тебе ничего обычного. И глаза у тебя сейчас изумрудно-зеленые. Я смотрю в них уже целую вечность, и их цвет почему-то больше не меняется.
***
Она взялась за ручку двери, и ее пальцы накрыла чья-то твердая ладонь. Варвара вздрогнула от неожиданности — рука была ей незнакома, но привычного желания избежать чужого прикосновения не возникло. «Не пугайся», — прошептал в ухо голос, явно не принадлежащий кому-либо из присутствующих. Варвара обернулась — на нее смотрели два невиданных ранее зеленых глаза. Цвет у них был ну просто совершенно фантастический — даже линз таких ни у кого во всей Москве не было. Другие черты лица были менее примечательными, хотя вполне приятными: темные волосы, полные губы, нос — островатый, но глаза такие, что не забыла бы: изумруд настоящий. Ни на одной из прежних «сергий» она это лицо не встречала и не засекла момент, когда его обладатель успел появиться в квартире, — никого вроде бы после прихода милиции в ту ночь не впускали больше.
Незнакомец толкнул дверь, и оба очутились внутри темной ванной комнаты с квадратиком маленького окошка, через которое из кухни падал тусклый свет. Было слышно, как капает вода из крана, из комнат доносился смех, звон рюмок и обрывки анекдотов. Варвара и незнакомец стояли друг напротив друга молча, в тесном пространстве между ванной и батареей у стены, и он не отпускал ее руку. Она даже забыла, зачем пошла туда, но не хотела, чтобы он начал о чем-либо спрашивать, заговорить самой не хотелось тоже, молчание не тяготило. Зеленые глаза смотрели с добротой и, кажется, с грустью, едва читаемой во взгляде. Он перебирал ее пальцы с трепетом старшеклассника, впервые осмелившегося взять за руку своего кумира чистой красоты. Ей нравились эти движения, она и не думала отдергивать руку, наоборот, захотелось самой вдруг погладить его — по щеке, узнать, колючая ли. Словно прочитав мысли, он поднес Варварину ладонь к своим губам и тихонько дунул в нее, а потом прижал к своему лицу, прикрывая ею щетинистый подбородок и рот. Его мягкие губы смыкались и размыкались щелочкой, приятно щекотали. Внезапно обе ее руки будто очнулись, и, независимо от сознания, пустились в странствия, им неведомые: та, что только что трогала его лицо, блуждала теперь на затылке среди жестковатых волос, а другая вычерчивала замысловатые фигуры на его шее, через минуту — на груди, переместилась на живот... Приблизилась к пряжке, слегка дернулась от металлического холодка, но прикоснулась снова — ниже — и замерла, накрыв горкой горячую плоть, стесненную джинсовой тканью.
Где-то далеко-далеко раздались новые аккорды — Эдик опять сел за пианино, а Варварин недавний партнер по танцам, видимо, не нашел себе другой партнерши, и фортепьянные звуки слились с медным голосом трубы. «Та-ам! Там-там, там-там, там-там...» Варваре казалось, что блюз зазвучал не за стеной на другом конце коридора, а внутри нее самой, словно она превратилась в арфу и кто-то играл на ней умелыми, чуткими пальцами. Незнакомец тоже, наверное, был музыкантом, раз мог так мастерски перебирать все ее струны и последовательно подчинять их под ритм. Два зеленых глаза вели свою оркестровую партию, ни на секунду не отрываясь от взгляда Варвары, и она смотрела, смотрела в них, как в глубокий колодец, пока все ее тело — от носков до макушки не охватило одно сладострастное желание всю эту музыку — пить...
Варвара закрыла глаза, зеленый огонь обволакивал ее снаружи под доносившиеся аккорды фортепьяно и голос трубы и сливался с «Голубой рапсодией»[58] арфы, звучавшей внутри. Сверхчеловеческое желание крутилось и сгущалось, терпеть уже стало невыносимо. Варвара почувствовала, как сильные пальцы чуть вдавились ей в спину, щелкнув застежкой, ее руки беззастенчиво дергали металлическую пряжку — и через секунду охапка смешанных одежд упала на кафельный пол.