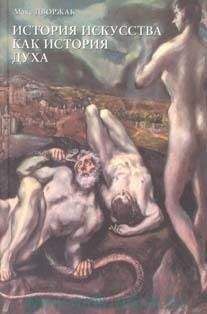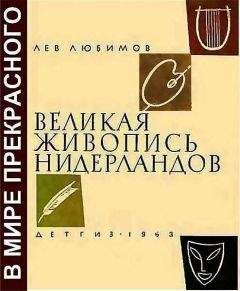Терри Дюв - Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность
Чей голос объявляет о результате или остатке всех этих редукций, составляющих буквенный номинализм? Кто выступает субъектом — провокатором — произнесения слова как пластического существа? Это «ничей голос», как говорит Лакан, тот самый, что «выводит формулу триметиламина как окончательное, всему подводящее итог слово».
Последнее слово, первое слово — слово, то же самое. Забавно — ведь это не более чем совпадение,—что «щека, амил, федра», которыми кончается, приводя, как и у Фрейда, на память МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ПЕРЕС, заметка Дюшана, вызывает тот же ряд ассоциаций, что и триметиламин27. Три слова выделяются в заметке с той же загадочной ясностью, которую формула обнаруживает в сновидении. Они возникают у Дюшана как пример, но как пример, взявшийся ниоткуда, образцовый ляпсус, вскрывающий в буквенном номинализме явление символического как такового.
В начале был язык. Нарисованный х или у, высказанный или написанный в каком угодно порядке, он предшествует появлению говорящих субъектов. «Может ли быть высказан звук этого языка? Нет»3. С неотразимой иронией Дюшан отсылает к их же наивности надежды художников, которые, подобно Кандинскому или функционалистам, воображали себя основателями языка, желая в то же время, чтобы их искусство говорило, причем немедленно. Не сложившийся уже субъект основывает язык, в том числе и живописный, а язык формирует субъекта, в том числе и субъекта-живописца. Желание основополагающего языка владело Дюшаном, как и всеми большими художниками его поколения. Но он, возможно, единственный, кому открылось, что «акт основания» заключен не в субъекте, создающем язык, новый и своеобразный, а в языке, создающем субъекта,—незапамятном и всеобщем; что не Я, сосредоточенное на чувстве своей внутренней необходимости, является условием этого «акта», а я, возникающее само собой, ибо его выносит из анонимной глубины язык,— его следствием; что этот «акт» относится к порядку wo Es war, soil Ich werden29, посредством которого «ничей голос» открывает возможность говорить я, то есть возможность разрушения и в то же время творения.
Дюшану —надо ли это повторять? — не свойствен фантазм чистого листа. Буквенный номинализм сводит на нет язык и, кажется, уничтожает даже простейший общественный договор, служащий его основанием, не для того, чтобы утвердить воображаемое условие творчества ex nihilo4. Наоборот. В итоге редукции, отклоняющей все воображаемые построения речи, обсуждаемая заметка различает на уровне языка в точности то же откровение, что и «Переход от девственницы к новобрачной» — на уровне живописи. И это двойное откровение — реального и символического, тогда как всякое воображаемое аннулировано. Реальное —это то же. Это вовсе не та девственная земля в преддверии языка, которую полагают в качестве предпосылки —чтобы возвести на ней основы нового языка—все, кто грезит началом с чистого листа. Реальное тоже в языке, коль скоро он дан в отсутствие субъекта, коль скоро знаки, слова, числа созданы, чтобы оказываться на том же месте, подобно тени гномона солнечных часов вне зависимости от того, видел ее человек или нет5. Реальное языка воспроизводится с каждым повторением того же, с каждым исполнением или, как говорит Дюшан, «с каждым прослушиванием одного и того же произведения». Реальное не имеет истории, оно вечно. Время для него не имеет значения .
Но в цикл повторений того же должен войти кто-то, для кого время имеет значение и кто считает время,—это и есть появление символического . То же реального становится самим реальным, то есть невозможным. Как только в дело вступает говорящий или слушающий — «репродуктор», по выражению Дюшана,—рождается я, для которого творение, наоборот, возможно, так как в цепи того же, с которым это я встречается, меняется оно само.
Итак, сквозь буквенный номинализм проходит двойное откровение. В начале было слово, в начале было имя или буква, или имя в буквальном смысле. Имена вещей всегда в прошедшем времени, всегда уже ready-made, готовы: «Pulled at four pins», «In advance of the broken arm», «With hidden noise», «Apo-linère Enameled», «Wanted», «Signed Sign», «Rasée L. H.O.O.Q». Имена автора, его подписи — тоже в прошедшем: «Маг у est» в «Новобрачной», разыскиваемое (Wanted) среди множества псевдонимов и готовых имен, подписывающих знак (Signed Sign35). Наконец, всегда в прошедшем времени имя-отца: «ready-made things like even his own mother and father»36. От имени вещи до имени-отца по цепи реального — вечной, поскольку дело в ней не касается начал языка, ведь слова, как и числа, всегда первые,— циркулируют одни и те же ready-made things, готовые вещи. «Отцы и вехи»6. Но в этой же самой цепи реального должен оставить свою веху и субъект — произнеся свое имя или услышав, как кто-то его произносит, пусть это даже «ничей голос», и смысл надо вновь сказать: «в начале было слово», но в существенно ином смысле. Надо сказать это в радикальном смысле одновременного разрушения и творения, призыва к консенсусу и несогласию, просьбы о признании, обращенной к «отцу» одновременно с его убийством. Короче, в этом следует усмотреть символический смысл провокации. Она «незавершается» приостановкой субъекта желания, но она «начинается» возникновением Другого на месте субъекта. Это начало нагружено всеми эдиповскими коннотациями, какие только могут быть заподозрены в просьбе о признании, одновременно уничтожающей наследие отца: «It is nothing to do what your father did. It is nothing to be another Cézanne»7. Причем эта редукция, это уничтожение не предполагают фантазма чистого листа. Художник исходит не из ничего, а из готовой традиции, из мертвого, но не прекратившего существование отцовского наследия: «Man can never expect to start from scratch; he must start from readymade things like even his own mother and father»8.
Подписывая смертный приговор живописи, реди-мейд одновременно подписывает свидетельство о рождении нового авангарда, но отнюдь не на чистой странице: ни отмены наследия, ни введения основополагающего языка в нем нет. «Традиция нового» (в терминологии Розенберга) возникла не из уничтожения цивилизации и не из варварского насаждения нового языка. Ее породил раскол, уделивший место искусства музеев всей совокупности живописной традиции, воспроизводить которую нет смысла,—традиции в прошедшем времени. Ее породила провокация, предвосхищающая, вибрируя от желания и иронии, момент, когда «ничей голос» будет услышан в согласном хоре новой традиции, которая будет считаться антиживописью и — в промежуточном — получит признание. И наконец, ее породил переход, который спрягается в настоящем времени, в вечном возвращении реального, или не спрягается вовсе, как моментальный скачок в четвертое измерение, вспышка символического. Переход от одного имени к другому, от имени живописи к имени искусства, на смычке которых «первые слова» составляют «поворотную картину».
Ибо они — не первые ни в смысле неслыханной реальности, зачатков языка будущего вроде синего круга, красного квадрата и желтого треугольника Кандинского, ни в смысле истока или пред-следа вроде вертикали и горизонтали Мондриана; они — первые, как простые числа, ибо они «делятся только на самих себя и на единицу». Слова, не имеющие ни большего общего знаменателя, ни меньшего общего числителя, слова, стоящие сами по себе, для себя и без общей меры, слова, которые могут только повторяться, «так же» и «длинными сериями».
В нахождении таких первых слов Дюшан видит условия языка. Живописный ли это язык? Не хотел ли Дюшан, подобно Кандинскому, Малевичу, Мондриану и многим другим, основать на бытии слова — которое Соссюр одновременно с живописцами и в согласии с ними считал бытием, основанным на противопоставлении,— метафорическую сущность живописи, понимаемой как язык, первостепенной особенностью которого является способность без языка обходиться? Нет, если ограничиться ссылкой на то, что после Мюнхена он больше не занимался или почти не занимался живописью и что, во всяком случае, реди-мейды никак не могут сойти за «картины». Да, если вспомнить, что бытие слова, которым должен увенчаться буквенный номинализм,—это бытие пластическое. Да, если согласиться со сдачей в музей всего ремесленного арсенала живописи, если признать, что ремесло никогда и не создавало живописца, а создавало его суждение —свое в процессе работы и зрительское при демонстрации произведения, если понять со всей очевидностью, что суждение, вне зависимости от его мотивации, всегда сводится к присвоению имени: это — живопись, а это — не живопись. Теперь ничто не мешает нам заключить, что не Дюшан изобрел живописный номинализм, а вся история живописи — история нарекающих ее именем эстетических суждений —более столетия до него уже была номиналистической. «Изобретение» реди-мей-да всего лишь удостоверило этот факт.