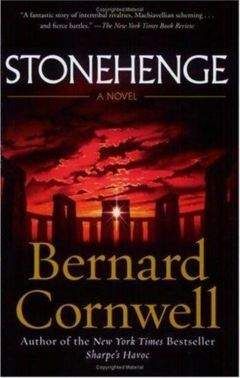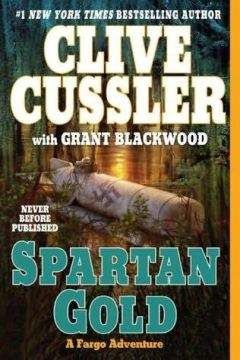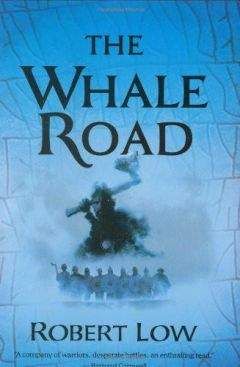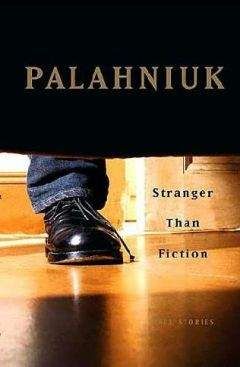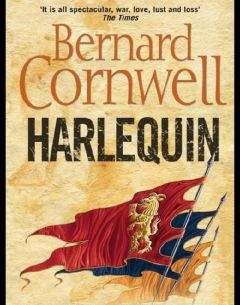Владимир Маканин - Портрет и вокруг
И вот с этим-то «топором» Вера отправилась в Госкомитет по кинематографии – к тому самому представителю. Он ее принял. Он ее помнил. Вера была спокойна и деловита. «Топор» лежал в ее сумочке, в обыкновенной дамской сумочке.
– …Ты почитала ему вслух?
– Да.
– Долго читала?
– Я никуда не торопилась.
Выслушав Веру, представитель Госкомитета вызвал Старохатова к себе, и они вновь почитали вслух, и состоялся как бы второй раунд того самого обсуждения. И представитель Госкомитета снял П. Л. Старохатова приказом. Отстранил от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию. Не в тот же день, конечно. Но почти в тот же день. «Топор» был что надо.
– Я не стала тебе сообщать, – сказала Вера. – Мои записи я там же, с общего согласия, уничтожила. Решили закончить дело без шума и огласки.
– Без скандала…
– Без.
– Но теперь-то наконец ты работаешь в школе?
Она усмехнулась:
– Работаю.
И сказала:
– До свидания. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
Еще в самом начале разговора я спросил, как ей работается в школе, и Вера ответила, что тоскливо.
И я не мог не подумать, что Старохатову сейчас тоже не сладко. Лишенный деятельности, сидит он сейчас в своей квартире, расслабленный и жалкий. А может быть, сидит и исходит тихой злобой, и злоба эта почти полностью достается его верной жене. Если не считать, что злоба ест его изнутри поедом. Сжирает нутро. Что и говорить, Старохатов и Вера обменялись ударами. Каждый получил свое. Итог вражды.
Глава 7
Аня улыбнулась:
– Брось, милый… Я же тебя люблю. И тебе не надо стараться выглядеть лучшим, чем ты есть.
Она говорила искренне. С любовью. И было ясно, что вольно или невольно она смотрит теперь на меня как на человека, который ничего особенного не добился.
В ее словах, как всегда, было очарование неведения и молодости, но сквозь очарование нет-нет и уже проглядывал остренький ум. Жизнь налаживалась. Жизнь понемногу, но грела. С момента выздоровления Маши мы стали нормальной семьей и, как всякая нормальная семья, улучшали свой быт, что-то покупали, чем-то украшали квартиру и уже всерьез заботились о таком или ином летнем отпуске. Маша ходила в детский сад. Аня ходила на работу. С работы Аня возвращалась довольная, энергичная, ни тени усталости: секретарь директора!
И уж ежели глаза ее открылись, они открылись широко:
– Твой Старохатов, что там ни говори, был настоящий муж и отец, он умел семью кормить.
Я смолчал.
– Все-таки уважаешь мужчину, когда он умеет зарабатывать.
– Жаль только, что при этом он обирал ребят.
– Брось, милый. Ты сам говорил, что в сценарном деле грани не существует – он обирал кого-то, а кому-то отдавал даром.
Так она это поняла.
Я спросил:
– Тебе очень хочется, чтобы я обирал?
– Глупый. – Она засмеялась. – Хотела бы я видеть дяденьку, который даст тебе себя обобрать. Знаешь, что я заметила? Мучаются вопросом, хорошо это или плохо – иметь деньги, как раз те, кто зарабатывать их не умеет.
Так она меня поощряла.
* * *
Сначала я узнал, что Старохатов продал машину, потому что не мог ее водить; подробностей не было. Потом, я узнал про его болезнь: у него болели руки. Его видели. Старохатов был плох. Похудевший и как-то разом согнувшийся – старик, – он брел по улице, как бродят по ней бездеятельные и больные старики. Работы не было. Творческая жилка давно иссякла.
– Да-а. Если нет здоровья, машина не нужна, – поддакнул я собеседнику.
Это был молодой кинематографист. Бойкий. Способный. Даже талантливый. Он-то и купил у Старохатова машину. Он-то мне и рассказывал.
– Бедняга Старохатов бродит по улицам…
– Бедняга, – согласился я.
– Здоровье – это главное, – продолжал молодой кинематографист. – Потеряешь – не найдешь.
И он со вкусом стал рассказывать, как ежедневно гоняет мяч во дворе дома с мальчишками, нимало не стесняясь жильцов, поглядывающих из окон. Потом он уехал. Бойкий. Способный. Даже талантливый.
Я смотрел вслед бывшей машине Павла Леонидовича.
А Вера не сумела работать в школе. Заскучала. Она ушла в какую-то организацию и там (так мне сказали) уже насмерть воевала с большим начальником.
* * *
В пять я шел в детский сад. Приводил Машу. Кормил ее. Она рассказывала свои детсадовские новости – тоже жизнь и тоже страсти. Я посмеивался. Я готовил ужин к приходу жены. Аня приходила. Всегда оживленная. Всегда радостная. На секретарской работе ее ценили все больше.
– Не знаю, в чем дело, – скромничала она, – меня вдруг стали хвалить. Говорят про меня: деловая, энергичная. И даже, – она смеялась, – умная! Ты это можешь себе представить – умная!
– Я это давно знаю.
– Конечно, секретарша – это звучит плохо. Но ведь все зависит от человека, милый. Все зависит от того, как человек работает. А я буду работать хорошо.
И верно. Аня работала хорошо – она так быстро вошла во всю эту круговерть. Казалось, что ее прежние смешные и энергичные начинания вместились теперь в одно, совсем не смешное: она узнавала, запоминала, выясняла, звонила, уточняла. Теперь ее звали Анна Константиновна.
Я вслушивался – откуда что берется. Чистая и отшлифованная речь – это отчасти, конечно, мое влияние, с овцы хоть клок. Великолепный практический ум – это, конечно, свое, природа! – и вот уже слушаешь ее, как мудрого и прожившего жизнь человека, который не скажет банальщины, который говорит и взвешивает слово за словом. И, как бы очнувшись, я с удивлением оглядывался на эту простую девчонку – мою жену, – ставшую красивой женщиной, которая знает жизнь и людей; как не знал, и не знаю, и, вероятно, не буду знать я, хотя и потратил на узнавание лучшие годы.
* * *
Вокруг нас появились люди – они были разные, мужчины и женщины, молодые и сорокалетние, но у всех у них было нечто общее: немыслимая энергия и желание нам угодить, помочь. Ну что такое секретарь директора – ну, посоветует, ну, подскажет, – ну, в лучшем случае ей духи, я так всегда думал. Ну, билеты в театр. Однако тут было совсем иное качество: они предлагали помочь… просто помочь… от чистого сердца.
А тут еще вдруг вышла наконец моя повесть – одна из старых, долго бродивших по редакциям. Так что и деньги какие-то появились.
Мы переехали из однокомнатной в двухкомнатную. В квартире просторно. В квартире вольно. Тело наше и мозг свыкаются с ограниченным пространством гораздо сильнее и сложнее, чем мы об этом знаем. Я ходил из комнаты в комнату, и возникало ощущение отнесенных границ – ощущение шири… Теперь была нужна мебель, разумеется новая.
Энергичные «наши» люди установили прямой контакт с наперед выбранным мебельным магазином. Они трижды разговаривали с некоей Вероникой Петровной, у которой в ходу была все та же магическая и несколько сдерживающая фраза: «Мебель покупается не спеша». День покупки все же назначили – день приближался.
Наконец Аня сказала:
– Иди в мебельный… И будь, ради бога, внимательнее.
Я отправился. Я шел быстро. Однако у входа я остановился и вошел в магазин в меру спокойно – я должен был спокойно спросить про гарнитур у девушки за столиком. И я спросил:
– «Марианну» не привезли?
* * *
– Зачем я рылся в его жизни?.. Зачем искал?.. Зачем вызнавал?
Как вдруг мертвый занавес распахнулся. Сам распахнулся. Сам нашелся ответ!.. Разве меня и мой «магнитофонный» поиск не вело чувство к Вере… Да, вело. Да, нацеливало. Да, давнее-давнее чувство. Остатки того чувства!.. Пусть даже остатки остатков чувства. Вот, стало быть, и суть.
Да, да, суть! Меня, мою мысль и мой поиск вела остаточная любовь к женщине, к Вере. Почему нет?.. Вот что толкало изнутри. Вот что было мотором. Мне ведь и впрямь по фигу был Старохатов. По фигу его чужая, не интригующая ничем жизнь. Но еще больше по фигу его портрет – серенький, общепитовский неинтересный мне ни с какой стороны!
С ясностью приоткрылась теперь первая, изначальная наша с ней сценка. Когда Вера еще только жаловалась мне на вражду со Старохатовым. Когда в самом конце разговора она, довольная итогом, спросила:
– Ты согласился помочь?.. Не ожидала, если честно. Пришла… Просить просила, но не ожидала.
И повторила:
– Согласился?.. Почему?
И подойдя ближе (я сидел на стуле) – руки мне на плечи. Красивая. С ароматом былых наших встреч.
А я снял ее руки с плеч, трусливо снял. И что-то пряча, словно топча ногой в траве, затаптывая, поспешно ответил:
– Как почему?.. Из справедливости.
Это была ложь. Я тогда точно знал, что это ложь. И я вполне знал, что именно я скрывал и что затаптывал.
Знал. А потом забыл. Да, да, забыл. И затоптанная, запрятанная, убранная с глаз долой моя давняя любовь к этой женщине стала жить самостоятельно. Без хозяина. Без меня. Но стала жить…
* * *