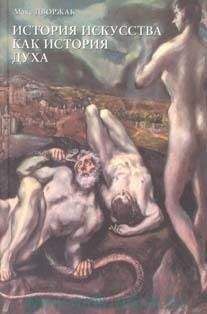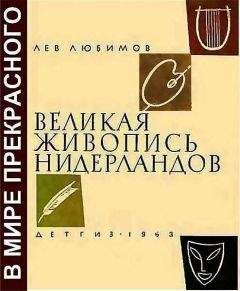Терри Дюв - Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность
Такого рода бытие открывается живописцу в лоне его эстетического опыта, будь он поэтическим или живописным, языковым или визуальным. В «Ступенях» Кандинский приводит воспоминания, в той или иной степени приукрашенные и домысленные, о некоторых своих эстетических опытах, которые
и. Там же. С. 135.
он по прошествии лет считает наиболее важными и в полной мере наделенными той внутренней необходимостью, что требовалась для оправдания перехода к абстракции. Один из этих опытов заключается в том, что во время работы над эскизом «Композиции VI», темой которой является потоп, он отказался передавать потоп как таковой и отдался выражению «внутреннего звучания» слова «потоп»44. Другой, более известный,—в абстрактной Unheimlichkeit45, которую художник однажды испытал в Мюнхене перед одной из своих картин, приставленной к стене: она была «совершенно непонятной по внешнему содержанию», но «неописуемо-прекрасной»46. Наконец, еще одним таким опытом является юношеское воспоминание, касающееся бытия и имени цвета. Кандинский описывает его с изрядной долей лиризма, который придает событию характер подлинного откровения: «Лет тринадцати или четырнадцати на накопленные деньги я, наконец, купил себе небольшой полированный ящик с масляными красками. И до сегодня меня не покинуло впечатление, точнее говоря, переживание, рождаемое из тюбика выходящей краской. Стоит надавить пальцами — и торжественно, звучно, задумчиво, мечтательно, самоуглубленно, глубоко серьезно, с кипучей шаловливостью, со вздохом облегчения, со сдержанным звучанием печали, с надменной силой и упорством, с настойчивым самообладанием, с колеблющейся ненадежностью равновесия выходят друг за другом эти странные существа, называемые красками,—живые сами в себе, самостоятельные, одаренные всеми необходимыми свойствами для дальнейшей самостоятельной жизни и в каждый момент готовые подчиниться новым сочетаниям, смешаться друг с другом и создавать не-скончаемое число новых миров»47.
Этот фрагмент является сразу в нескольких смыслах центральным. По своему положению в повествовании он соединяет и соотносит друг с другом два других воспоминания. Первое — это полузабытое воспоминание детства, которым открываются «Ступени» и которое придает этому названию48 фантаз-матический подтекст «первичной сцены»: «Первые цвета, впечатлившиеся во мне, были светло-сочнозеленое, белое, красное кармина, черное и желтое охры. Впечатления эти начались с трех лет моей жизни»49. Второе — вполне сознательное, гнетущее воспоминание периода учебы в Мюнхене, когда, поступив в мастерскую Штука, молодой Кандинский вынужден был отказаться от своих «причуд» колориста и подчиниться жесткой дисциплине черного и белого, пока цвет в конце концов не взял реванш, после чего «стена, заслонявшая искусство», рухнула и художнику открылось «начало великой эпохи Духовного»50.
Психоаналитический аспект «Ступеней» более чем очевиден. Весь текст представляет собой анамнез, дожидающийся анализа, воображаемый ретроспективный обзор пути живописца, направляющий симптоматический свет на тоже воображаемый, в свою очередь, характер откровения Духовного, которым завершается гнетущее воспоминание ученических лет. Это воспоминание, свидетельствуя о подчинении молодого Кандинского академическим законам рисунка, но в то же время и о глухом сопротивлении, которое он, колорист, оказывает им, продолжая писать для себя, смыкается с незапамятным счастьем первичной сцены и запускает ее отложенное свершение. Центром этой смычки воспоминаний взрослого и ребенка является относящееся к юности воспоминание о наборе красок. А центром этого центра, субъектом длинной лирической фразы, в которой этот набор описывается,—связка цвета с его именем через его бытие (или с бытием через имя): «эти странные существа, называемые красками» .
Глядя на то, как вылезает из тюбика краска, Кандинский присутствует при рождении существа, которое язык, с учетом присущих ему ограничений, может назвать цветом, а поэзия —окружить множеством эпитетов, которые еще до акта живописи сделают его произведением искусства,—с той лишь оговоркой, что имя цвета не обозначает ничего помимо метафоры его бытия, его метафорического бытия, его «внутреннего звучания».
Тенденция, о которой свидетельствуют отношения цвета и имени у Кандинского, выходит далеко за пределы его частного случая: речь идет ни больше ни меньше, чем о создании основополагающей идео-логемы не только живописи Кандинского, но и всей абстрактной живописи в целом. Эта идеологема вносит в технические, исторические и эстетические определения живописи философское, даже метафизическое притязание, от которого абстракционизм не откажется никогда — под страхом быть низведенным до простого декоративного искусства, «остаться на уровне нервов», скрестить визуальность (в смысле Фидлера) «живописи сетчатки» с пестротой оп-ар-та. Она же властвует над модернистским проектом: основать специфичность живописи на ее неприводимом бытии, а позднейшие варианты живописного языка —на элементарной метафоре, высказывающей его сущность.
Никто из живописцев — пионеров абстракции не подвергал эту идеологему теоретическому осмыслению, подобно Кандинскому. Те же, кто брался за эту задачу впоследствии (как, например, Малевич), предлагали другие ее «решения», подробно останавливаться на которых не входит в нашу задачу. Так или иначе, выбор Дюшана в пользу Кандинского, будучи всецело индивидуальным, в то же время обусловливался доминирующим положением русского художника в «состоянии художественных проблем и практик» Мюнхена в 1912 году, а также тем возможным (хотя и спорным) обстоятельством, что Дюшан в это время читал и комментировал «О духовном в искусстве».
Чтобы помыслить живописный язык, свободный от всяких референциальных обязательств, Кандинский снабжает свой семиологический проект онтологической подкладкой. Залогом возможности «чистой» или «абсолютной» живописи является для него выявление ее «глубоко метафорического» характера. Иными словами, началом всякого языка служит основополагающая метафора, а всякая метафора по сути своей является языковой. Цвет, который вместе с формой — но и до нее — представляет собой семиотический элемент живописи, обнаруживает глубокое сродство с именующим его словом. Если бы дело сводилось к подтверждению утраты бытием цвета — и в том числе его визуальным бытием — связи с его именем, то с живописным языком было бы тем самым покончено, и отказ от изображения вкупе с переходом к абстракции ни о чем не говорили бы, с тем же успехом можно было бы просто отказаться от живописи.
Тенденция к соотнесению цвета и его имени ярко свидетельствует в пользу обратной симметрии Дюшана и Кандинского. Выше я говорил, что «Переход от девственницы к новобрачной» был, помимо прочего, теоретическим переходом, что метафорическое переступание черты между означающими «Сезанн» и «Сюзанна» можно, прибегнув к игре слов, истолковать как переход от сущего {с ’est), к знаемо-му (su), от онтологии к эпистемологии. Возможно, это был несколько поспешный вывод, ведь понятно, что нельзя освободиться от онтологии полностью. Но очевидно, что онтология Дюшана, как и онтология Лакана, относится к регистру речествования51. В обстановке эпохи, оказавшись в точке скрещения парижской традиции и мюнхенской, заставившей его уйти от кубизма и позволившей уйти от него путем цвета, Дюшан пришел, в сущности, к тому же открытию, что и Кандинский: я имею в виду глубоко метафорическую сущность живописи. Отличие лишь в том, что Дюшану она открылась в перспективе символического, а Кандинскому — в перспективе воображаемого. «Открыв», что бытие живописи — это бытие метафорическое, Кандинский решил, что можно продолжить метафору, вообразить целый живописный язык, распространяющий это «открытие» на смежные территории, вне зависимости от их специфики: от «Теории цвета» Гёте до символистских соответствий и психологии цветов. Нельзя отрицать, что он и другие пионеры абстракции приобрели таким образом исключительную свободу. Но по прошествии времени очевидно, что притязания этого излияния живописного воображаемого на статус символического не оправдались. Кандинский, Клее, Иттен не только изобретали живописные языки, но и стремились преподавать их. И, вопреки вполне серьезным попыткам выстроить грамматику пластических искусств, «Точка и линия на плоскости» Кандинского, «Педагогические наброски» Клее, лекционный курс Иттена в Баухаузе так и не пошли в символическом плане сколько-нибудь дальше механистических формул типа «желтый треугольник, красный квадрат, синий круг». Еще очевиднее не оправдались социальные амбиции, проводником которых призваны были стать эти педагогические начинания: отнюдь не «универсальный язык» абстрактного искусства сумел «примирить Искусство и Народ». Возможно, одно объясняет другое.