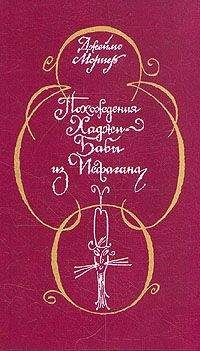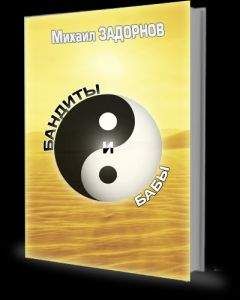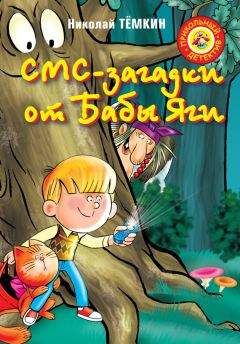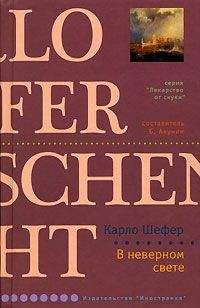Gurulev - Rosstan
Долго стояли казаки, смотрели вслед Илье, пока не скрылся он за зеленым увалом.
X
Илья вернулся. Не гадала Федоровна, не ждала его уже давно. Сколько лет свечки ставила за упокой мужниной души, писала в поминальники – грех-то какой! – а он живой все это время был.
Кружится Федоровна у печки с чугунками, вдруг затихнет, вспомнит про мужа: да верно ли он вернулся, не приблазнилось ли все? По душе – холодком. Федоровна тихонько из двери выглянет: да нет, не приблазнилось, вон он, Илья, телеги коммунарские чинит. Худой только, старый уже, а он, Илья. Крестится Федоровна: не умом ли она трогается?
Илья стал ласковым: крепко, видно, его жизнь обломала. Несладко было на чужой стороне. И боязливый какой-то. Отказаковал, видно, Илья. Боится мужик заграницы, хоть и злобу имеет за свои муки большую. Недаром по ночам кричит, зубами скрегочет.
Народ то уж как-то пообвык в коммуне, а Илье все внове. И тут он чего-то боится. Присматривается. Федоровне известно, что у него на уме. Думает Илья: «А ладно ли, когда все общее?» Видно, никак мужик в толк не возьмет, что вернулся бы он к пустому двору, не будь коммуны. Не знает Илья, как горбатили его недоросший сын Савва и она, Федоровна, у чужих людей, на чужом поле.
Степанке – тому все просто. А значит – хорошо. У многих есть отцы, и у него теперь есть.
Первые дни отец Степанку ни на шаг от себя не отпускал. Все ему казалось – не помнит его младший сын, забыл.
Степанка грубел голосом.
– Я, тятя, помню. И как жили, и как за хунхузами ты ушел.
– А сивого жеребца помнишь?
– Помню.
– Хороший жеребец был. Последний раз я его на Хайларском базаре видел. Меня углядел – заржал. Остарел, поди, теперь Сивый.
В один из первых дней появления в коммуне Илья решил съездить в Караульный, к своему старому приятелю Алехе Крюкову. Да заодно и в поселке побывать, взглянуть на свой старый дом. Хоть и заколочен теперь дом, закрыты его окна щелястыми досками и двор порос бурьяном, душа Ильи никогда не покидала этот дом.
Алеха встретил Илью радушно. Облапил мосластыми руками, мокро сунулся в усы, в небритые щеки.
– Ждал я тебя. Виню себя всегда, что не уговорил тебя тогда уехать из-за Аргуни.
Илья знал, что Алеха начнет этот разговор.
– Вины твоей здесь нет.
За эти годы подкачал и Алеха. Несладкая жизнь в революцию эту самую, видно, была. Узкими овражками морщин изрыто лицо. Только глаза по-прежнему синие, неуспокаивающиеся.
Мужики сидели за широким столом, пригладывались друг к другу – времени-то сколько прошло, – прощупывали осторожным разговором. После первых рюмок, когда безбоязненно распахнулась душа – не забылась старая дружба, – Алеха спросил напрямик:
– Как жить думаешь? В коммуне или своим хозяйством?
Илью и самого этот вопрос донимает не первый день. И так вроде плохо, и эдак нехорошо. Ответил осторожно:
– Там видно будет.
Трудно Илье решиться. Хотя вроде и решать нечего, все решено. Из коммуны уйдешь – от голода взвоешь. Непривычно это – коммуной, вместе всем жить, а придется.
– А я сам хозяйствовать решил, – Алеха снова наполняет рюмки. Наливает вровень с краями, щедро.
Хорошо под водку разговор вести. В дымной от многих самокруток горнице плавают добрые, ласковые слова – вспоминают казаки давнюю молодость, легкие походы, гульбища. Тяжело падают на пол, разбиваются в тоске и обиде слова о мытарствах на чужой стороне, об Усте, против отцовской воли покинувшей дом, о Николае, забывшем в этот дом дорогу.
– Вот так и живем со своей старухой, – Алеха медленно пьянеет.
Пьянеет и Илья. Расстегнул ворот на жилистой шее, навалился грудью на столешницу.
– А народ там ничего. Это я тебе про коммуну говорю. Только вот мне непонятно: зачем Ганю Чижова там приголубили. Его ж никакой хороший хозяин держать не будет.
– Споем, что ли? – Алеха поднял голову. Не дожидаясь ответа, повел хриплым голосом:
Н-не-ве-ейтеся, ч-чайки, над мо-о-орем, В-вам некуда б-бедненьким се-е-сть…
Только в коммуне услышал Илья эту новую песню. Но для него она по-особому понятна, близка.
Лет-ти-ите в страну Забайка-а-алье, Н-несите печа-альную ве-е-сть.
Хорошая эта песня. В ней и тоска, и удаль, и отрешенность. Воины окружены врагами. Но не будет плена, не будет позора.
…Погибнуть здесь на-а-ам суждено-о.
Дребезжат оконные стекла, плывет сивый махорочный дым, багровеют в натужном реве шеи мужиков, липнут к мокрым лбам спутанные, поредевшие чубы.
…Па-атр-роны у нас на исхо-о-оде, С-снаря-ады уж вышли давно-о…
– Люди работают, а они ханшин лакают, – сказал, картинно появившись в дверях, Федька. Лицо его цветет улыбкой.
– Федька! – обрадовался хозяин. – Мы тебя ждем.
– Смотри-ка, ждем, – тихо изумилась жена. – Бутылку у парня заметил в кармане, вот и ждем.
Но Алеха расслышал.
– У меня и своей выпивки хватит, баба, – а Федька мне заместо сына. Как друг.
«С чем это парень приехал? – забеспокоилась старая Крючиха. – Не иначе в коммуне был. Об Усте, видно, что привез».
Крючихе есть о чем беспокоиться: ее Устя там у себя в коммунии в какой-то женотдел записалась. Да мало записалась – в старших ходит. Бабье ли это дело? Сказывали люди: с Северькой, мужем своим, даже ругается, нрав свой женотдельский показывает. Какому мужику такое дело поглянется? А председатель коммунский, партейный Иван Лапин, хвалит вроде бы Устю.
Но Федька слова о коммунарском житье не сказал – нечего, видно, сказать, – успокаивающе кивнул головой, шумно полез за стол.
Илья запьяневшими радостными глазами уставился на Федьку.
– Бравый из тебя казак, Федча, получился. Я когда уезжал за реку, ты ведь еще и не брился и за девками не бегал.
– Бегал уже, дядя, бегал.
– Ну а сейчас?
– Чего сейчас? А! Бреюсь, бреюсь.
Илья погрозил пальцем.
Хозяйка взяла из рассохшегося шкапчика стакан, оттерла его белой тряпицей, поставила на стол.
– И закуски добавь, – распорядился Алеха.
Гостеприимный Алехин дом племянник и дядя оставили поздно. Пьяный хозяин потянулся было за ними, но тихая его жена вдруг воспротивилась:
– Ложись-ка спать, гулеван.
– Илюха, друг! – Крюков стоял посредине горницы босой. Желтоватая бязевая рубаха широко расстегнута на груди, вылезла из-под ошкура шаровар. – Плясать будем…
– Ты и верно спи, – посоветовал ему Стрельников. Федька повел ночевать дядю в свой пустой дом. Они шли темным переулком, останавливались беспричинно, охлопывали друг друга по спине.
Федькин дом в запустении. Во дворе на месте амбара короткие столбики и высокая крапива.
– Бесприютно живешь, – сказал Илья с пьяной откровенностью. – Плохо живешь.
В избе Федька засветил лампу.
Илья повернулся было в передний угол, поднес сложенные щепотью пальцы ко лбу – давно не переступал он порог этого дома, – но сразу опустил руку.
– Не держишь икон?
– Всех Богородиц мать в коммуну уперла. Без образов живу.
– А и не надо, – легко согласился Илья.
– Выпить еще хочешь, дядя Илья?
– Да кто ж от выпивки отказывается? Налей. Уважь.
Они просидели еще долго, почти до первых петухов. Разговор был сумбурный, пьяный, и была в нем какая-то болезненная обнаженность. Это был разговор людей, спешащих высказать друг другу в порыве откровенности все наболевшее, сумрачное. Это был разговор людей, наперед знающих, что утром все забудется.
Наступали минуты просветления.
– Неправильно живешь, Федча, – грозил тогда пальцем Илья. – Хоть и весело живешь, с риском, а неправильно.
– А что мне делать?
– Да хоть в коммуну вступай, – сказал Илья неожиданно для себя. – От своих не надо отрываться.
– Дядь Илья! – Федька проводит короткопалой рукой по груди: – Не могу я так, как раз плюнуть, жизнь прожить…
– Как так?
– А так. Помру я когда-нибудь. А никогда в жизни не поношу хромовых сапог, плисовых шаровар. Всю жизнь прогорбачу на чужого дядю. Так? А я нет, не хочу так, слышишь?
XI
Не успела бригада отдохнуть после тяжелой пахоты, как подкатило время сенокоса. Опустела коммунарская усадьба. Дома остались пастухи да несколько баб. Ребятишек-десятилеток – и тех на покос взяли – будет кому волокуши возить.
На общем собрании решили – каждый день барана резать. Для многих свежее мясо летом – диковинка. Правильно собрание решило: работа тяжелая, еда добрая должна быть.
Степанке, Мишке Венедиктову, Егорше Чижову на нынешний покос впервые выдали литовки, как у взрослых. И покос нарезали отдельный. На Степанке короткая, в белые горошины ситцевая рубаха. Когда он поднимает затекшие руки, рубаха задирается и виден тощий живот, почерневший от сенной трухи. Голова, как и у взрослых, повязана платком. Жилистые ноги обтянуты старыми ичигами. Хоть и тяжко просыпаться ранними утрами, но Степанка встает сразу и начинает тормошить свою бригаду.