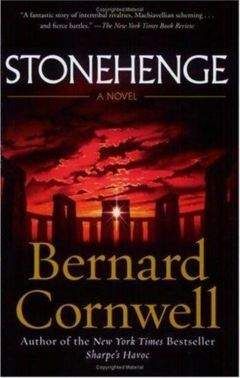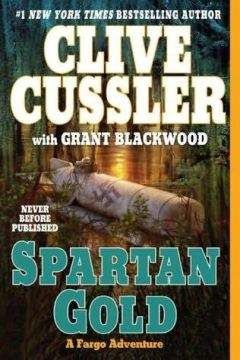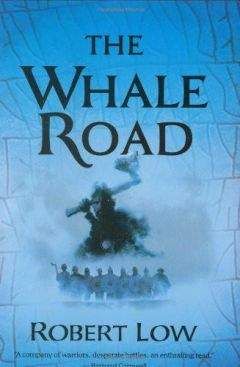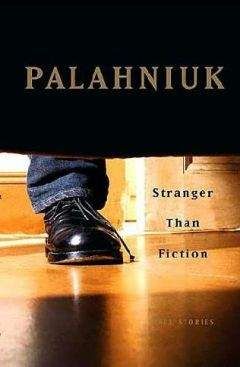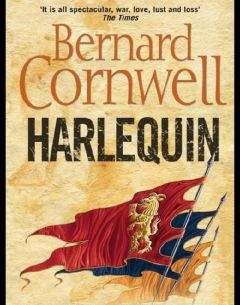Владимир Маканин - Портрет и вокруг
Представитель и глазом не моргнул:
– Что это такое, товарищи?.. Попрошу посторонних выйти.
И добавил:
– Роль моя здесь сугубо ведомственная. И разбор ведомственный, прошу вас выйти.
Мы затоптались у дверей, но еще не ушли. Перфильев успел проговорить:
– Может, мы тоже хотели сказать несколько слов.
– Это не собрание.
– Но мы все-таки будем здесь. Мы будем ждать.
Представитель Госкомитета и тут не моргнул глазом:
– Дело ваше, ждите.
И дверь за нами закрылась.
Началось томление. Можно было вышагивать в прохладном холле туда-сюда, разглядывая в полутьме портреты кинодеятелей. А можно было вернуться к тем захлопнувшимся дверям и, сбычившись, подав вперед ухо, расслышать деловитый голос Павла Леонидовича или его смешок. Или сдавленный голос Веры, которая в чем-то винилась, а в чем-то оправдывалась. «Я работала. Я всегда с своей работой справлялась… Мастерская для меня была вторым домом», – доносился ее голос. Доносился или вдруг пропадал.
Можно было спуститься в буфетик и, гоняя там чаи, думать, что вот так и проходят в твоей жизни день за ночью, а портрет не движется. Думать и с холодком прикидывать, куда вынесет этот самотечный поток дней, если ты ничего в себе не переменишь или вдруг из себя самого не выпрыгнешь. А ведь уже не выпрыгнешь…
Сигарету я взял у Перфильева в привычной и застарелой надежде, что чужое вкуснее. А если не вкуснее, то все же новизна: взять чужую сигарету – это тоже из самого себя немножко выпрыгнуть. Можно утешаться.
– Так и будем слонов слонять! – сказал Перфильев. Он и с упрямством это сказал, и со злостью.
Я попросил сигарету.
– Держи.
– Спасибо.
– Чужое слаще! – сказал Перфильев и засмеялся.
Он не усомнился, что я «свой» и что я «за наших», хотя я и сидел за столиком со Старохатовым и даже что-то там прихлебывал сладкое, за которое, быть может, и платил-то не сам, а те, с кем сидел. Он не усомнился. Он даже хлопнул меня по плечу. Дескать, все так, парень, потому что чай чаем, а правда правдой. Хлопнул по плечу, затем тяжело развернулся и двинулся разлапистым шагом матерого постаревшего мужика.
* * *
Мог быть рассказ о том, как человек не любил кино и как кино ему отомстило. Сначала экранизировали и опошлили все его любимые книги, и он уж не мог их читать. Потом стали мучить его телевидением. На его работе сотрудники только и говорили об актерах и актрисах, а в довершение всего на его тихой улице со старинными домами, в одном из которых он проживал, по обе стороны улицы начались киносъемки, и под самыми его окнами игрались сценки, и он слушал эту жуткую пародию на живую жизнь. Едва дождавшись отпуска, он решил уехать, бежать. Один. В поисках тишины и отдаленности он бежал через Урал – в Сибирь. Он шел и шел, углубляясь в тайгу и ночуя в маленьких сибирских деревушках. И в одной из них его подстерег инфаркт. Бедный, упал прямо посреди улицы, и – в ожидании врача – местные женщины бережно отнесли его в их киноклубик, ведь там было больше воздуха сравнительно с избой, а больницы своей в деревеньке не было. Ненадолго он пришел в себя, а затем скончался: последнее, что он видел, был киноэкран, правда, пока пустой, белый.
Я расхаживал в прохладном холле, полном портретов кинодеятелей, и думал, почему же так сторонившийся кино, так уходивший от него, я вот уже год как живу в нем, думаю о нем и ведь писать хочу о нем, и даже когда отдыха ради я убегаю в заснеженную деревню, там в эти самые дни непременно ездит по сугробам «рафик», на боку которого написано МОСФИЛЬМ, – что это, если это не месть?
* * *
Мы опять оказались у дверей – я и Перфильев. Он заговорщицки подмигивал мне, и мы поочередно прикладывали ухо к дверной щели, дабы усилить звуковое поле для своих перепонок.
Представитель Госкомитета задавал Вере быстрые вопросы: «У вас была какая-либо личная заинтересованность в этом магаданце?» – «Нет». – «Вы знали, что вызов недействителен без приказа руководителя Мастерской?» – «Да». – «Вы знали, что вызов обязывает нас оплачивать самолет?» – «Да». – «И оплачивать число рабочих дней, которые магаданец потерял?» – «Да». – «Отдавали вы себе отчет, в какое положение всех нас ставите?» Он спрашивал, Вера отвечала, а мы пристраивали ухо к дверям. То я, то Перфильев. По очереди.
Иногда, томясь, мы натыкались друг на друга в коридоре. И, почти столкнувшись, Перфильев басил:
– Н-да… Ждать и догонять – хуже не бывает.
Или сам себе говорил:
– Мы же не просто ждем.
Он имел в виду, что мы все-таки давим на мозги представителя Госкомитета. Давим своим присутствием. А представитель Госкомитета сидел себе там, наверху, и задавал свои быстрые вопросики.
В восемь, как было условлено, я не забыл подойти к телефону – к тому, что у парадного входа. Там на стуле тихим послезакатным сном спала вахтерша; в темной поддевке и в темном полушалке – она спала и клонила голову, как темная лебедь. А швабра, которую она, спящая, сжимала в руках, стояла прямо и ровно. Вместе получалась картина: усталость и долг. Игра линий. В пластическом вкусе Коли Оконникова.
– Ну что? – нервно спросила Аня. Она схватила трубку с первым же гудком. – Ну что?
– Ничего.
– Еще не закончили?
– Нет.
– Но вы (то есть Перфильев и я)… вы хотя бы сказали что-то в защиту? Или вы там как мебель присутствуете?
Я не мог ей объяснить и побыстрее повесил трубку.
* * *
Как раз я приставил к дверной щели свое ухо. А Перфильев был в полуметре – стоял, дышал на меня и ждал черед, чтобы приставить свое.
Вера там вскрикнула:
– Я?..
Дальше голос Веры уже не смолкал: та степень возбуждения, ненависти и крика, которая идет наравне с истерикой.
– Я не ты! – вырывалось у нее с яростью. – Я, может, и грешный человек, но честный!.. А ты обворовывал ребят. Ты пил их кровь…
Как будто прорвало:
– Ты кровь пил. Ты сосал их кровь, подонок и паразит. Дерьмо. Куча дерьма. Куча старого дерьма!
И теперь выкрикивал Старохатов:
– Вы слышите! (Крик в адрес представителя.) Вы слышите – вы теперь понимаете, каково с ней работать!
– Прекратите!
Представитель Госкомитета сказал повелительное слово, когда повеление уже было ненужным. Потому что оба уже молчали. Вспышка была слишком взрывной и стремительной. Выхлоп – и было уже сказано все.
Перфильев и я слушали теперь, как льется вода из графина в стакан. И как позвякивает стекло о стекло. И тут же вежливое воркование представителя Госкомитета – он подошел к ней, он уговаривал Веру выпить воды.
Перфильев шептал мне:
– Что она говорит?.. Зачем?
А там вновь раздались крики:
– …не спешила уйти в школу? – горячилась Вера. – Я потому и не спешила. Я ждала, чтобы ты сорвался…
– Неужели? – спокойный голос.
А представитель Госкомитета молчал.
– Только потому и не уходила. Я хотела за руку тебя поймать. Как вора. С поличным…
– Что ж не поймала? – спросил Старохатов.
Он владел собой. Он только чуточку улыбался, посмеивался. Я видел это отчетливо и ясно, хотя и не мог видеть. «Друзья мои! – обычно говорил он, обращаясь и слегка (очень в меру, едва намеченно) протягивая к нам руки. – Друзья мои! Берегите свой талант…» – он говорил и вот так же чуточку улыбался, посмеивался.
– Что ж не поймала?
– Не повезло, вот и не поймала. Не повезло мне! – И тут, задохнувшись от волнения и внезапной мысли, что она уйдет в школу и что теперь уже никогда «не повезет» его поймать, Вера вскипела и вновь стала выкрикивать что-то мстительное, злое. Слова ее уже были явно лишние.
В девять я опять подошел к телефону у входа. Вахтерша спала.
– Ну? – спросила Аня.
– Конец, – сказал я.
– Чего конец?
– Конец фильма.
Я почувствовал, как сердце Ани – там, у нас дома, – екнуло и медленно опустилось на прежнее место.
– Веру выгнали? – Голос ее упал.
– Можно считать – да.
Аня помолчала. Смирилась.
И вздохнула. И уже не захотела ни расспрашивать, ни суетиться, ни даже бросать меня в новую атаку.
– Машенька спит. У нас все тихо, – негромко проговорила она.
* * *
Веру выгнали. Правда, скверную характеристику Старохатов навязать ей не сумел – не вышло. Потому что представитель Госкомитета, может, и не знал всего в их вражде, но он, чиновник, твердо знал нечто, что стоит иногда всех знаний, взятых вместе: он знал, что если примешь крайнее решение, то придется (можешь не сомневаться!) с этим делом возиться еще раз и еще раз принимать решение. Быть может, и в третий раз. И в четвертый. Пока вода не выровняет свои уровни во всех емкостях и трубках. Это он знал, иначе бы он не был чиновным представителем Госкомитета год за годом. И потому он сделал уровни одинаковыми – заранее. Отделил Веру от Старохатова, вот и все.
– Все же мы повлияли, – сказал Перфильев, когда уже расходились.