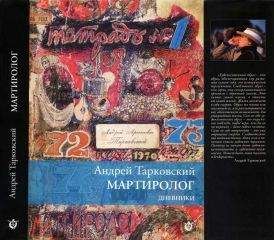Николай Болдырев - Жертвоприношение Андрея Тарковского
венную сущность, вечную - подобно ритмам музыки И.С. Баха.
Эта отрешенность остановленных крупным планом лиц, вслушивающихся в метафизическое Ничто, - одно из ранних изобретений Тарковского, один из реальных приемов освобождения от законов психологических мотиваций, втягивающих художника в "жанр". Начало этому положили даже не иконописцы "Рублева", но сирота Иван. А завершили этот путь откровенные "безумцы" последних фильмов. Не случайно любые попытки понять поведение Доменико или Горчакова (в "Ностальгии") исходя из психологии терпят крах. Людей отличают не поступки (не столько они), сколько характер и уровень мотиваций.
Длительное удерживание в кадре крупным планом лиц персонажей у Тарковского симметрично подобному же удерживанию "лиц" растений, натюрмортов, фрагментов воды и т.д. В итоге оказывается, что мы всматриваемся... в себя, в свою неизреченность, в свою "несказанность".
Героя Тарковского мы созерцаем в том же контексте, в каком пребывают в пространстве фрагменты стены, дерево, палисадник, подоконник с вазами и камнями, лошадь, дверной проем, водная глубь... Уровень "психологического животного" (или жестче - "психологической машины"), до которого опустился современный человек, Тарковского не занимает. Его занимает тот бытийный уровень, на котором человек, дерево, каменная стена, конь - равносущностны. Наблюдаемый в этих изначальных ритмах, герой Тарковского - часть универсально-метафизического пейзажа, где, наверное, можно было бы говорить о позе клена возле крыльца или о жестах вечернего солнца... Деревья, поле, травы, воды у Тарковского философствуют, философствует вся живая и "неживая" природа. Однако было бы во сто крат точнее сказать - они медитируют.
В "Зеркале" этот опыт обнаружения героем (невидимый голос) своей одушевленности в тысячах фрагментов существования достигает пика насыщенности. В этот эпицентр тво-римости бытия попадает камера Тарковского.
Это таинственное "самообнаружение в другом" в "Зеркале" свершается исключительно насыщенно, вплоть до того, что одна актриса (М. Терехова) играет без грима двух разных женщин с исчерпывающей внутренней убедительностью, равно как и один и тот же мальчик есть и Игнат и Алеша*.
* В "Сталкере" идет медленное "расплавление" индивидуалистических оболочек трех героев и продвижение их к единому внутри себя центру, стирание различий до некоего молчаливого, чуткого к "духу музыки" (в том смысле, как его описал в монологе Сталкер) умудрения. Особенно много-значительна унисонность пластического дуэта Сталкер - Писатель: в сценах их продвижения по пути к сухому тоннелю, эстетически-живописно наиболее насыщенных, мы наблюдаем их словно бы зеркально взаимоотраженными, как нечто братски-схожее, единородное.
В "Солярисе" это еще более поразительно: душа Хари прямо является Крису как бессмертная - она вновь и вновь воплощается во всей своей внутренней сути и неизменности, воплощается в телесных фантомах.
Но главное, конечно, это наше соприкосновение с внутренними ритмами и внесловесными сутями, исходящими из растений, предметов, пейзажей и из таинственных "зазоров" между ними. И здесь мы наблюдаем бережное, поистине нежное (у кого еще встретишь такое?) касание Тарковским каждой частицы жизненного вещества. К каждой травинке, к гниющему древесному стволу, к стеклянной вазе с водой, к любой пейзажной, интерьерной или житейской мизансцене наблюдающая душа прикасается так, что ты буквально чувствуешь - сейчас, немедленно, без доказательств - сверхъестественную природу этого явленного потока. Так ребенок, еще не оторванный от первосвета в себе, наблюдая это наше бытие, в то же время созерцает инобытие, ибо из этого инобытия он недавно вышел и его глаза обладают двойным зрением, двойной фокусировкой...
Разумеется, эта способность растворяться была у героя Тарковского и раньше; скажем, весь образ Рублева построен именно на этом его интуитивном знании, на ощущении тождества своего духовного сердца сердцу всех других существ и даже предметов. Рублев смотрит на мир словно бы из множества других сердец, других страданий, ибо подлинность свою человек выстрадывает. "Зеркало" создает своего рода симфонию этой способности человеческой души, обнаруживающей себя в стольких зеркалах. И чем чище зеркало, в которое смотришься, тем глубже твой лик (что может быть чище зеркала растений?), тем он свободнее от тленного, прочерченного морщинами страстей лица, тем он прозрачнее. И однажды, пройдя множество испытаний, очищающих от эгоцентрической накипи, герой Тарковского подходит к зеркалу шкафа ("Ностальгия") и, заглянув в это зеркало, видит там лицо и глаза отшельника Доменико - рыцаря веры, то есть себя самого, но того себя, кто чище и сильнее тебя. А еще позднее он обнаруживает в зеркале - пустоту. (В киносценарии "Гофманиана" этот мотив станет постоянным.) Пугающее ли это самообнаружение? И пугающее, и восхитительное. Ибо, не обнаружив в зеркале лица, человек понимает, что маска, которую он считал собой, исчезла.
Отраженность в зеркале вместо лица пустоты на языке мистики означает слиянность лица и души, а в смысле бытийном это значит "я.есмь".
И это чистое естество камера Тарковского и схватывает словно некую летучую смертно-бессмертную нить.
(2)
Странно ли, что первое же стихотворение Арсения Тарковского, зазвучавшее в фильме, вошло в него и растворилось в нем так, словно бы оно здесь вот, сейчас из этой волхвующей серебряно-дождливой пелены и родилось?
Предчувствиям не верю и примет Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда Я не бегу. На свете смерти нет. Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо Бояться смерти ни в семнадцать лет, Ни в семьдесят. Есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, И я из тех, кто выбирает сети, Когда идет бессмертье косяком.
Живите в доме - и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, Войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною ваши дети И жены ваши за одним столом, -
А стол один и прадеду и внуку: Грядущее свершается сейчас, И, если я приподымаю руку, Все пять лучей останутся у вас. <...>
Я и сейчас, в грядущих временах, Как мальчик, привстаю на стременах...
В нас есть нечто, что бессмертно, это то, за чем с мистическим волнением из фильма в фильм следит камера Тарковского. Как гласят Упанишады: "Мудрый не рождается и не умирает; Он ниоткуда не появился и не есть Он кто-либо; Он есть нерожденный, Он есть непреходящий..." Нужно просто вспомнить подлинного себя, и к этому направлены все энергии ностальгии Тарковского - как живого лица во времени, и его героев. Этим и вызвано его томление по воспоминанию того сущностного в своей жизни, что каким-то образом подводит к возможности обнаружить это чудесное пространство "пробужденного сознания", свободного от желания владеть тленными и исчезающими, как сновидения, вещами.
Потому-то у Арсения Тарковского: "Есть только явь и свет, / Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. / Мы все уже на берегу морском, / И я из тех, кто выбирает сети, / Когда идет бессмертье косяком..."
Вот почему "грядущее свершается сейчас". Тела исчезают и вновь являются, но живое вещество сознания в них остается нетленным и светозарным, словно вечное око Безупречного Кинематографа.
(3)
Движение к сверхъестественному в себе, напряжение этого движения неуклонно возрастает от фильма к фильму. Эти искания в "Рублеве" еще вполне наивны и материалистичны. Душа Рублева пока очень сильно привязана к естественной природной мистике жизни. Сверхприродное в природном ему дается с трудом и лишь изредка. В "Солярисе" Тарковский приобретает опыт общения со сверхъестественным как принципиально неизвестным, и в "Зеркале" вся полнота постижения сверхъестественного в естественно-земном выплеснулась с необыкновенной экспрессией и исключительно чистым мелодизмом.
В "Сталкере" эта мелодия становится уже религиозной: все, что нам кажется привычно-естественным, на самом деле (для рыцаря веры) исполнено тайн и испытующих, зрящих наши глубины загадок. Мы идем по пространству, где все подает нам знаки, все пребывает в диалоге со "сверхъестественным" в нас. И если это "сверхъестественное" пробуждено, то жизнь становится приключением в твоих собственных "волшебных комнатах".
Сюжет "Ностальгии" в этом смысле утончается. Горчаков столь всецело занят вслушиванием в некий запредельный в себе мир, что внешним наблюдателям (например, Эуджении) его движение, "приключение его духа" не видно.
В "Жертвоприношении" Тарковский моделирует прямое "столкновение с Абсолютом". Александр, коснувшийся "нерожденного" и потому бессмертного в себе ядра, уже при жизни оказывается вневременным, он просыпается посреди всеобщего сна. Почему это случилось? Потому что его тронула зрячая длань сверхъестественного.
(4)
Есть еще один и, пожалуй, наиважнейший поток, изъясняющий суть религиозности Тарковского-художника... Кратко говоря, Тарковский раскрывает уникальность того, что есть, в том медитационном процессе, которым и являются его фильмы.