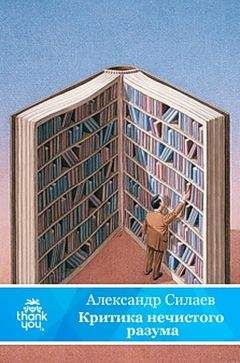Александр Кузьменков - Группа продленного дня
В палате Трофиму выпал пиковый интерес. Возле его кровати, по-наполеоновски скрестив руки на плоской груди, стояла Людмила, а на матрасе были аккуратно разложены мятые пачки чая, три желтые, с синим слоном – индийский и три красные с желтым львом – цейлонский, все шесть высшего сорта. Астральный путешественник неожиданно завыл по фене: бля-а, ошмонала, ковырялка гумозная, шоколадница, отда-а-ай. И напрасно, поскольку тут же нагрянули санитары Паша и Левон, два откормленных кабана. Тощий Трофим, матерясь, бился в их руках, футболка с олимпийским медведем треснула, под ней обнаружилась татуированная трехглавая церковь, вот это да, не из тучи гром. Ему, чтоб неповадно было, ширнули сульфозин квадратно-гнездовым методом – под обе лопатки и в обе ягодицы – и положили на вязки. Развяжите полотенцы, иноверы-изуверцы, вспомнил Андрей. Барал я вашу совесть в грызло, петушня помойная, крикнул Трофим вслед цырикам. Хавальник завали, космонавт ебаный, посоветовали те. Температура у Трофима махом поднялась, он лежал весь красный и упорно молчал часа два-три, а потом вновь завыл: хоть градусник дайте-е. Градусник ему неожиданно дали. Трофим, изогнувшись, вытащил его зубами из подмышки, разгрыз и, проглотив ртуть, выхаркнул на пол осколки стекла вместе с кровью. Все, щас кончусь, торжественно объявил он. Людмила, Паша и Левон заметались по отделению, пришел вразвалочку зав Лебедев с брезгливой усмешкой на губах: это пары ртути ядовиты, но не сама ртуть, дурак ты, зря себе рот изрезал. Трофим задергался и заплакал.
Обсудить происшествие было не с кем: хитрован Достоевский, пользуясь тем, что Иванов опять с перепоя, выпросился домой на двое суток.
Железная дверь нехотя пропустила его на улицу. Бурая медь опавших листьев под ногами перемешивалась с грязью, часы над стеклянной дверью заводоуправления показывали 28.32. Что-то переменилось, он отчетливо чувствовал, что-то было не так. После первого же шага стало понятно, что именно: ноги онемели, не желая повиноваться. Глянув вниз, он обнаружил, что обут в стоптанные кирзовые сапоги с обрезанными голенищами. Он с усилием дотащил непослушные протезы до скамейки и рухнул на нее всем телом, хотелось выругаться, но из горла вырывалось невнятное кудахтанье: пло-пло-пло-плохо-плохо мне. Откуда-то вынырнул Саша Быков в длинном пальто нараспашку, уселся рядом, погладил по голове. Успокойся, мальчик мой, должно исполниться на тебе и сему писанному; истинно сказываю, не изыдеши, доколе не отдашь и последней полушки, но токмо терпением твоим спасется душа твоя, помни это; возьми конфетку, мальчик мой. Саша ушел, растворившись в сыром сумраке подворотни. На ладони осталась карамелька в красном фантике, он попытался донести конфету до рта, но негнущиеся пальцы с нечистыми обломанными ногтями не удержали ее, и она повалилась под ноги. По щекам потекли слезы, бессильные и злые, он кое-как нагнулся и обнаружил под ногами рифленую крышку канализационного люка. Пло-пло-плохо-плохо мне...
Вечером пришла мать – яблоки, пакет овсяного печенья, свежий номер «Юности», а сигарет всего-навсего две пачки: ты и так много куришь, давно пора бросать. Здесь невозможно бросить, ответил Андрей. Тетя Света тебе привет передает, а на улице-то какая холодина, пора зимнее надевать. Мы не о том говорим, мама. А о чем надо? Я больше не могу здесь, ты же врач, могла бы попросить, чтоб выписали. Мать умела быть железной леди: вот как? а о чем ты раньше думал? Да, врач, и считаю, что тебе нужно лечиться. Да это же не лечение, это наказание какое-то, санаторий усиленного режима. Брось глупости говорить, какое еще наказание? первая заповедь медика – не навреди; хлористый кальций, который я прописываю, – тоже, знаешь ли, не газировка, но больным на пользу, кстати, где ты щеку поцарапал? Не знаю, мотнул головой Андрей, ну поговори с завотделением, я тебя прошу. Мать посмотрела на него, как на недоумка: за все в жизни надо платить, это тебе известно? ты платишь за свою глупость; начитался всякой ереси да устроил представление, хуже истеричной бабы, безотцовщина чертова, вот что значит мужика в доме нет. Андрей встал: спасибо за сигареты, мне пора, а то на ужин опоздаю.
До ужина, впрочем, оставалась уйма времени, и он успел побывать у Лебедева. Владимир Иванович, я вас прошу: выпишите. С какой стати, Рогозин? Я совершенно не понимаю, зачем вы меня тут держите. Тебе объяснить? Зав принялся загибать пальцы: подавленное настроение – раз, отсутствие реальных планов – два, попытка суицида – три, и это самое существенное. Человек, лишенный инстинкта выживания, сам себя не любит. И это, Владимир Иванович, по-вашему, признак ненормальности? да на этом строится половина мировой культуры: Бодлер, Лермонтов... Зав Лебедев невозмутимо загнул мизинец с отросшим ногтем: патологическое мудрствование – четыре; твоя фамилия, если не ошибаюсь, не Лермонтов, а перебивать старших по меньшей мере неделикатно. Кстати, Лермонтову мелипрамин не повредил бы. Ну так я продолжу. Возлюби ближнего как самого себя, ты только вслушайся: как самого себя. Если ты себя не любишь, это настораживает: ты вообще никого не способен любить, следовательно, социально опасен. Нельзя предвидеть, на кого ты направишь свою агрессию. Сегодня сам себя порезал, завтра – кого-нибудь другого, логично? И потом, если ты так хочешь выписаться, то почему я о художествах Трофимова узнаю не от тебя, а от медсестер?
Потом был ужин, а потом Андрей расположился на кровати с «Юностью». Трофим, которого наконец-таки отвязали, угрюмый и притихший, не надоедал больше межпланетной дребеденью, достал из тумбочки заводного пластмассового цыпленка и пустил его прыгать по подоконнику, но тут же поймал и со всей силы швырнул на пол. Пластиковый корпус игрушки разлетелся, и механизм, стрекоча шестеренками, поскакал между кроватей на тонких железных лапках. Выглядело это жутковато. Трофим ткнул пальцем в потолок и заорал, ни к кому не обращаясь: в сфере высшей гуманности меня поймут, а вам, волки тряпочные, это не по зубам, там мои адвокаты, там!
Андрей сунул в карман пару яблок и ушел с журналом в коридор. Он сидел у окна, грыз яблоко и пытался читать какую-то бесцветную военную повесть. Подошел Быков, но вместо обычной ламентации заквохтал что-то новое: праздник-праздник, кусь-кусь, ура-ура. Праздник, Саша, еще какой праздник, сказал Андрей, протягивая ему яблоко.
Как бы не так, вспоминал он вечерний разговор с Лебедевым, не способен любить, а Скво? Ирина Скворцова, в миру Скво: профиль греческой камеи, сигарета на отлете, вечная полуулыбка и рыжие, безбожно рыжие волосы. Больше всего хотелось, чтобы она умерла, тогда можно было бы положить ей цветы на грудь и поцеловать лоб и руку, а с живой ни хуя доброго не выходило. Андрюша, ты для меня добрый ангел, всепонимающий друг, но увы, не мужчина... Ну еще бы, ведь рядом джигитовал на новехонькой «Яве» весь из себя джинсовый и кожаный Мамед Паша-оглы, короче, обрыгай-углы. Директорский сынок из Сумгаита приперся учиться в РСФСР, потому что папаша пожопился дать на лапу в родном Азербайджане. Извини, но твой «Wild Cat» – это тьфу, красивый девушка должен одеваться по моде, «Super Perry’s» достаю, хочешь? Воистину мудр был Соломон, сын Давидов: сильна, как смерть, любовь, и стрелы ее – стрелы огненные. Верка-кураторша тщетно взывала к здоровому цинизму: посмотри, на что ты похож, не просыхаешь, учеба в жопе, в журнале одни пропуски, на хрена тебе сдалась эта стервь, ну на худой конец сходил бы в наше ЦПХ, что ли, там этого добра – как собак нерезанных. Знала бы ты, добрая душа, как по ночам, вернувшись с блядок, он таскал у матери из аптечки элениум – чтоб уснуть, чтоб не помнить. Но дважды мудр был сын Давидов: и это пройдет; через полгода боль съежилась, затаилась где-то внутри ржавым лезвием. Так-то вот, а вы говорите...
Снова скрежет петель, и снова тухлая канализационная жижа, но на сей раз он был в трубе не один: где-то сзади возилась, хрипло сопела и тяжело шлепала по воде безглазая белобрюхая тварь, он не видел ее, но спиной, кожей, всем естеством чувствовал опасность и омерзение. Пальцы мертвой хваткой вцепились в спасительную лестницу. Подтянувшись на руках, он выволок себя в неверный и призрачный предутренний свет. Над рекой возвышался заросший жухлой осенней травой глинистый откос, а на самом его верху среди полуразрушенных кирпичных стен гнилым зубом торчала облупленная печная труба. Бежать не было сил, ноги подкашивались, и он, задыхаясь, пополз вверх по склону, пачкая лицо и руки глиной, приминая к земле увядшие стебли полыни, хоронясь в едва заметных впадинах, натыкаясь на вспухшие вены корявых корней. Брошенный дом был завален мусорной мешаниной: обрывки фотографий, осколки битого фаянса, пупс с раздавленной головой, куски картона, старые газеты. Скорчившись возле печки, он потянул волглую бумагу на себя: хоть так, пусть хоть так...
Что нового на воле, Михалыч? На воле, юноша, все как в анекдоте: кэгэбычно плюс холод собачий, а что в нашем богоугодном заведении? Равным образом. Трофима вот привязали. И чем бедолага согрешил? Людмила у него в подушке чай обнаружила. Нашел, дурак, где прятать: подальше положишь, поближе возмешь, что ж он рот-то разевал? Да ошмонали его, пока мы в подвале были. Достоевского передернуло: что-о? в подвале? я бы туда не пошел под любым предлогом – инфаркт, менструация, скоропостижная смерть... Это скверное место, помяни мое слово. Подвал как подвал, с чего бы вдруг? Достоевский нервно захрустел пальцами: ты хоть представляешь, где мы с тобой находимся? В дурдоме, ответил Андрей. Вестимо, в дурдоме, а хоть знаешь, где он стоит? здесь до революции было кладбище, его в тридцатые зачем-то срыли, что-то строить собирались. Ну и что? Ну ты идиот, да мне не по себе от одной мысли – спуститься под землю, в землю, где покойники лежали, и без того одна мертвечина кругом... Что ты имеешь в виду? Что имею, то и введу, окрысился Достоевский: мы живем на гигантском кладбище. Это надо же додуматься: устроить могильник на главной площади страны да еще и труп оставить без погребения; я, кстати, и другой вариант видел. Я же родился в Нижнем Тагиле, батя мой, царство ему небесное, всю войну на «Уралвагонзаводе» тридцатьчетверки делал, это уже потом его сюда перевели. Там все наоборот: на месте погоста – главная площадь, некрофилия чистой воды, это ли не изврат? Может, и изврат, сказал Андрей, но мертвые не кусаются. Да что ты говоришь, юноша? хуй там, они живее всех живых. Падали поклоняемся, падаль ненавидим. Для чего, по-твоему, ипатьевский дом в Свердловске снесли? Чей дом, не понял Андрей. Ипатьевский, где Романовых расстреляли. А для чего черножопого из Мавзолея вытащили? Нет, не так все просто... Знаешь, вспомнил Андрей, а Пестрый телегу в ментуру накатал про здешний подвал: мол, там чуть ли не штаб мирового сионизма. Ну вот видишь, крыша набок, а неладное верзохой чует, не в пример тебе. Кладбище – это, юноша, страшно. Оно свое всегда возьмет. Ты знаешь, что три дня под одной крышей с покойником сокращают жизнь лет на пять? А теперь прикинь, кому в итоге служит здешний персонал... Достоевского явно заклинило, и надо было как-то выбить клин: зачем же ты сюда вернулся, Михалыч? А куда прикажешь деваться? велика Россия, да отступать некуда; здесь, по крайней мере, хаванина халявская, при моей-то пенсии грех отказываться...