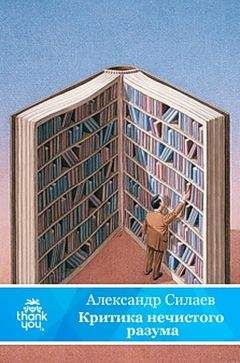Александр Кузьменков - Группа продленного дня
Седьмая немногим отличалась от наблюдалки, разве что белочки ни у кого не было. Трофим, завсегдатай с пятилетним стажем, назидательно поднимал палец: Дарвин фатально ошибался, отчего не эволюционирует homo sapiens? отчего кошка упадет и отряхнется, как ни в чем не бывало, а мы переломаем ноги? отчего все млекопитающие, кроме нас, рожают без проблем? человечество, Студент, – инопланетная раса, не подчиняющаяся земным законам, и если мне удастся войти в контакт с нашей прародиной... Угрюмый дебил Крот бесконечно намазывал пальцем на хлеб маргарин, посыпал сахарным песком, долго хрустел и чавкал, а нажравшись, дрочил под одеялом; говорили, что как-то раз он отымел свою мамашу-алкоголичку. Гаврик заявлял всем подряд, что видит мир по-своему, а в подтверждение целыми днями прилежно и неумело рисовал шариковой ручкой тюльпаны, растущие из гробов; паренек, козе понятно, косил от армии, но персонал считал его аггравантом, ну что ж, сам нашел приключений на жопу.
Дни склеились в одни безразмерные сутки с подгоревшей перловкой на завтрак и колесами на десерт, если что-то и менялось, то лишь пейзаж за окном: промерзший до кирпичной твердости глинистый пустырь присыпало колкой снежной крупой. Ноябрь, все-таки.
Под визгливый скрежет петель он протиснулся в мир, укутанный серым тряпьем тумана, где геометрия крыш и фасадов лишь угадывалась сквозь водяную пыль. Он двинулся наугад, туман прилипал к лицу, затрудняя дыхание, но промозглое месиво мало-помалу рассосалось, выпустив на волю детали: покосившийся фонарный столб, с которого безвольно свисала паутина оборванных проводов, темные провалы окон в недостроенном доме, отсыревшие доски забора. Мусор валялся под ногами, будто комья гнилой требухи. Навстречу бежала низкорослая криволапая сука в панцире розовой коросты, едва не волоча по бугристому асфальту безобразно раздутые сосцы. Дверь, обитая потрескавшимся дерматином с торчащими клочьями ваты, отворилась, пропуская его внутрь, где застоялся леденечный запах грошовой парфюмерии; на подзеркальниках лежали лысые помазки, беззубые расчески и выщербленные ножницы. Парикмахерский салон, перекошенный кавернозной амальгамой, выглядел камерой пыток, но это еще полбеды, страшнее всего оказалось его собственное лицо: уродливо вздутая маска из папье-маше, набрякшая тяжкой влагой, в редких чешуйках уцелевшей краски. Ломая ногти, царапая щеки, он кое-как сорвал личину и швырнул ее в угол, та по-лягушачьи распласталась на полу, растеклась кровавой лужей, и он бросился вон, не разбирая дороги. Витрина за спиной обрушила наземь стеклянный звездопад. Единственный фонарь в безлюдном переулке сгорбился виселицей, недостроенный дом пялился вслед пустыми глазницами, забор злобно ощерил свои редкие резцы. Бежать, но нога зацепилась за неведомую преграду, и он повалился рядом с раззявленным канализационным люком, в глубине которого виднелись знакомые зеленоватые блики на маслянистой воде. Только не это, прошу, только не это...
К Достоевскому стоило прислушаться: мужик тертый, отечественная психиатрия у него была записана на жопе, гостил в самой что ни на есть Казани. В приснопамятном 1968, говорил он, наш орденоносный бровеносец ввел танки в Прагу, а я был глуп и не видал больших залуп, и когда девятиклассница на уроке спросила, что Федор Михалыч по этому поводу думает, Федор Михалыч брякнул в простоте душевной, что Россия продолжает оставаться жандармом Европы, как при царе-батюшке: чем, мол, не венгерская кампания 1849 года? Ну что взять с двадцатипятилетнего идеалиста... Более того, хватило ума послать протест в «Правду» и «Известия», ты представляешь? За что был премирован бесплатной профсоюзной путевкой в братскую Татарию. Говенное место, юноша, врагу не пожелаю: лаковая кровь и ЭСТ, видал мои бивни? – там остались. Честное слово, предпочел бы статью и нары, с зоны проще выйти человеком, хотя как знать? – в чужих руках хуй всегда толще. Однако Галина Борисовна распорядилась именно таким образом: параноидная форма шизофрении, ну кто ж еще, кроме шизофреника, посмеет залупаться на родную Советскую власть?
Диссидентство вышло Достоевскому боком. Кроме обломанных на электросудорожной терапии зубов и полинаркомании, он вывез из Казани манию преследования: время от времени дотошно изучал электропроводку, сторонился розеток и в поисках жучков переворачивал табуретки вверх ногами. Такой он и был, учитель истории в отставке и инвалид головы, и к нему стоило прислушаться.
Михалыч, ты мужик умный, паровоз видал, – скажи, к чему канализация снится? Во-первых, юноша, добрый день; во-вторых, что именно снится? Я же сказал – канализация: труба, вода... Тебе как, по Фрейду или по Мартыну Задеке? впрочем, в прошлом веке канализации не было, так что выбирать не из чего; трубы – явно фаллопиевы, воды – околоплодные, стремишься, юноша, вернуться в эмбриональное состояние, что закономерно: так оно спокойнее. Хотя я в психоанализ мало верю, больших трудов стоило расплеваться с материалистическим мировоззрением. И какова, спросил Андрей, альтернатива? А пес ее знает, но только не материализм; сам посуди, ну что за хуйня: материя есть объективная реальность... Посмотри вон хоть на Трофима, для него астрал вдвое реальнее седьмой палаты. И вся так называемая объективная реальность ему – до сраки дверца, да и ты ночью по сточной трубе шароебил, а не по дурдому. Жизнь есть сон, как сказал один испанец... Достоевский хитро уставился на Андрея. Да знаю, отмахнулся Андрей, ты меня не экзаменуй, – Кальдерон. Но раз икс равен игреку, юноша, игрек неизбежно равен иксу; значит, справедливо и обратное утверждение: сон есть жизнь. Вот тебе вопрос покруче гамлетовского: Чжоу ли снилось, что он бабочка, или бабочке, что она Чжоу? А вот это я уже не читал, сознался Андрей. Один-ноль, по-детски обрадовался Достоевский, это Чжуанцзы. Уважай, юноша, китайцев: восток – дело тонкое...
Зав Лебедев крутил печатку на пальце: что у вас за странные такие симпатии с этим циклодольщиком? он к тебе как, без домогательств? Абсолютно. Ну смотри, а то ведь это статья, ты вменяем, так что отвечать в случае чего придется, мое дело предупредить. Таблетки какие-нибудь не предлагал тебе? Нет. Лебедев скорбно вздохнул: ладно, оставим на твоей совести; какие планы на будущее? Пока не знаю. Ну так я тебе, Рогозин, расскажу: с институтом ты скорее всего простишься. Есть всего два противопоказания к профессии учителя: туберкулез и психические заболевания. Ах, ты не знал? Ну что ж, будешь знать. Теперь большую роль играет то, с каким диагнозом ты отсюда выйдешь. Это может быть безобидная неврастения, а может быть... И это, как ты понимаешь, целиком зависит от меня. Дружить со мной надо, Рогозин, дружить. Интересно, как вы себе представляете нашу дружбу? Ну, это уже частности, по ходу дела определимся...
Поздравляю, тебя начали ломать, невесело хохотнул Достоевский, не понимаю, чем пацан может быть опасен для этой мрази, скорее всего Лебедев ищет повод лишний раз власть употребить; комплексы у него, что ли? И про голубизну каково загнул, ведь доподлинно знает, гондон, что я нормальный мужик… был нормальным, пока его коллеги импотентом меня не сделали. Готовься к худшему, юноша. Счастье, если тебе достанутся одни медикаменты, это еще можно пережить, если постараться, даже инсулин и модитен-депо. А что, Михалыч, хуже? Я не Господь Бог, огрызнулся Достоевский с внезапным раздражением, это он всеведущ, а не я.
Во втором мужском меняли постельное белье. В седьмую заглянула сестра-хозяйка Полина: Рогозин, Трофимов, давайте в хозблок, люди вы физически здоровые, трудиться надо. Увязав грязные простыни и наволочки в два больших узла, они спустились сначала на первый этаж, а потом еще ниже, в цоколь: с тех пор, как похолодало, в хозблок ходили через подвал. Полина открыла дверь, обитую железом. Подвал встретил их затхлым теплом, карбидной и канализационной вонью, путаницей подземных коридоров. Навстречу попались трое сантехников в мокрых брезентовых робах: блядь, я ж ему русским языком, что вентиль – говно, а он... Отстояв недолгую очередь, Андрей с Трофимом получили по узлу чистого белья и вернулись назад.
В палате Трофиму выпал пиковый интерес. Возле его кровати, по-наполеоновски скрестив руки на плоской груди, стояла Людмила, а на матрасе были аккуратно разложены мятые пачки чая, три желтые, с синим слоном – индийский и три красные с желтым львом – цейлонский, все шесть высшего сорта. Астральный путешественник неожиданно завыл по фене: бля-а, ошмонала, ковырялка гумозная, шоколадница, отда-а-ай. И напрасно, поскольку тут же нагрянули санитары Паша и Левон, два откормленных кабана. Тощий Трофим, матерясь, бился в их руках, футболка с олимпийским медведем треснула, под ней обнаружилась татуированная трехглавая церковь, вот это да, не из тучи гром. Ему, чтоб неповадно было, ширнули сульфозин квадратно-гнездовым методом – под обе лопатки и в обе ягодицы – и положили на вязки. Развяжите полотенцы, иноверы-изуверцы, вспомнил Андрей. Барал я вашу совесть в грызло, петушня помойная, крикнул Трофим вслед цырикам. Хавальник завали, космонавт ебаный, посоветовали те. Температура у Трофима махом поднялась, он лежал весь красный и упорно молчал часа два-три, а потом вновь завыл: хоть градусник дайте-е. Градусник ему неожиданно дали. Трофим, изогнувшись, вытащил его зубами из подмышки, разгрыз и, проглотив ртуть, выхаркнул на пол осколки стекла вместе с кровью. Все, щас кончусь, торжественно объявил он. Людмила, Паша и Левон заметались по отделению, пришел вразвалочку зав Лебедев с брезгливой усмешкой на губах: это пары ртути ядовиты, но не сама ртуть, дурак ты, зря себе рот изрезал. Трофим задергался и заплакал.