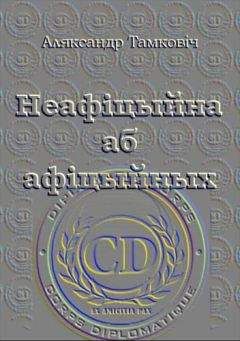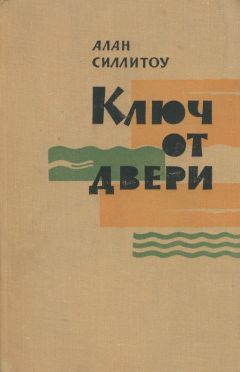Алан Силлитоу - Ключ от двери
Противник не сдавался, отбиваясь ногами. Но Брайн уже не помнил себя и делал все как во сне, охваченный первобытной жестокостью.
— Оставь его! — кричала Полин. — Оставь!
Смысл ее слов наконец дошел до него, и он удержал занесенный испачканный кровью кулак.
— Ну, получил? — спросил он, отпуская противника. Тот застонал и упал на землю.
— Пошли, — сказал Брайн. — Хватит с него. Она взяла его под руку, и они ушли.
— Не нужно было делать этого, — сердито сказала она. — Он бы сам ушел через минуту, я просто уверена.
Она оттолкнула его руку.
— А разве он не ухаживал за тобой? — спросил Брайн.
— Конечно, нет. Он подсел ко мне за минуту до твоего прихода, и спросил, можно ли меня проводить. А я ему даже не ответила.
Брайн молчал, она тоже умолкла, и он был рад этому, потому что почувствовал слезы у себя на щеках. Ему захотелось уйти и никогда больше не видеть ее, спрятаться от своего стыда. Темная волна захлестывала его, но тем нужнее ему было находиться рядом с ней, потому что тогда сердце его не так сжималось от боли. Она разорвала бы ему сердце, эта боль, если б он остался один в темноте. Он все повторял себе, что нужно вернуться и посмотреть, как там этот малый, и в то же время какое-то отчаянное и необоримое чувство толкало его вперед.
— Надеюсь, с ним все в порядке.
— Наверно, — сказала она, снова взяв его под руку. Из ссадин сочилась кровь. Вот как кончился вечер, когда Брайн решил наудачу один прогуляться в кино, но он был рад, что дрался из-за этой девчонки, которую еще даже не видел при дневном свете, и победил в драке.
— Как тебя зовут, детка? — спросил он, прижимая ее к себе и целуя. Мимо проехала машина, тускло светя фарами в сторону центра.
— Полин, — сказала она.
Когда он вернулся домой и опустил руки в миску с водой, вода стала розовой. На следующее утро на его лицо было страшно смотреть.
Обычно в сушилке Брайн, подобрав кусок картона, экзаменовал Билла, проверяя, хорошо ли тот знает условные знаки, географическую сетку, линейный и цифровой масштаб, определение магнитного склонения, истинного курса и румба. Кусок картона покрывался сложными символами, которые всякому несведущему показались бы китайской грамотой; Брайн объяснял также, как снимать профиль с карты. Все свои знания он почерпнул из картографического руководства, которое нашел субботним вечером в одной из городских книжных лавок. Он с увлечением читал эту книжку несколько недель, но совсем забросил се, когда начал гулять с Полин, и не вспоминал о ней, пока в один прекрасный день Билл не сказал, что ему чертовски трудно приходится, потому что у него экзамены на аттестат первого класса, а он в картах ничего не смыслит.
Билл сегодня тоже вызвался очищать дымоходы, но Брайн проработал чуть ли не до вечера и почти очистил половину трубы (сыт по горло и еле жив, в глотке сажа, задыхаешься и потеешь), а Билла все не видно, и он начал подозревать, что Билла назначили на какую-то работу полегче, например во дворе, на свежем воздухе, поднимать на веревке ведра с золой, а потом грузить на машину. А может, и нет. Он слышал, как мастер сказал, что ему придется потом поработать и в правой трубе, потому что и ее они собирались очистить сегодня, чтобы сразу растопить печь. Ну, если Билл увильнул, не будет ему больше никаких занятий по картографии. А еще друг, хотя, конечно, он в тысячу раз лучше, чем все эти начальники. Им бы только побольше продукции выпустить да потуже набить карманы. Что ж, им легко быть патриотами; на их месте и Брайн бы сумел. Про Роусона говорят, что он из них самый порядочный, а только и он тоже дрянь: Брайн из-за него лишился спокойной работы, Роусон все-таки увидел на карте в своем кабинете надпись «Пора открыть второй фронт», и ему, наверно, это не понравилось, потому что уборщица сказала Брайну, что на его место назначили другого. Вот тебе и оценили знания, вот тебе ихняя благодарность за то, что ты булавки передвигал куда надо!
Он проглотил слюну — во рту было полно сажи — и продолжал копать, теперь уже почти у того колена трубы, где он надеялся встретить Билла Эддисона. Он смертельно устал — казалось, кто-то закрывает ему глаза ватой, — с трудом преодолевал искушение бросить лопату и тут же уснуть; это была нестерпимая усталость, которая обычно одолевала его во второй половине рабочего дня и от которой все тело становилось каким-то вялым, а глаза слипались и ему приходилось бороться с собой, чтобы не закрыть их, совсем отгородившись от мира. Обычно этот мир, открывавшийся ему при свете солнца, был такой яркий и многоцветный, на него нельзя было не обращать внимания, но здесь черному мраку помогали тепло и удушливый запах сажи, которую он механически насыпал в низкий лоток, прижатый ногой к стенке; им все сильнее овладевало желание свернуться калачиком на мягкой куче сажи и позабыть обо всех этих мыслях. И. хотя коварное желание гнездилось в нем, оно не облеклось еще в слова, и, борясь с этим желанием, он не давал словам прорваться наружу. В этом теперешнем примитивном существовании ему удавалось поддерживать душевное равновесие только мерными взмахами лопаты, беззвучно врезавшейся в слой сажи, мягкой, точно масло, и даже еще мягче — лопата скользила словно по бархатной ткани. Он с удовлетворением услышал, как, достигнув кладки, сталь приглушенно заскребла по кирпичу. В конце дымохода зола кое-где затвердела, превратившись в маленькие ноздреватые комки, здесь было жарче, и вообще за весь этот день ему еще ни разу не было так невыносимо тяжело.
Он отползал на животе каждые пять минут и, перевернувшись на спину, лежал так, пока не отойдут руки и колени, а потом снова полз вперед. «Готов побиться об заклад, даже на море не намного труднее бывает. Конечно, там можно в два счета погибнуть — утонешь в шторм, и все, но здесь тоже надышишься этой дряни помаленьку н наживешь чахотку, хотя, право, не знаю, что хуже — тянуть тут лямку всю жизнь или быть повешенным, четвертованным, утонуть, наконец. Ну да, слава богу, мне сейчас не выбирать. Лопата — вот и все, что мне сейчас нужно, лопата, чтоб откопать себя из могилы или, наоборот, закопать, как я это сделал сегодня; во всяком случае, к тому идет, н надо побыстрей шевелиться, кончать со всем этим. Это не дело — так долго сидеть тут, точно я труп, похороненный в пыльной утробе старой робинсоновской фабрики. Я зарываю все лучшее, что во мне есть, торчу часами в этой дыре, где ни черта не видно, хотя, вообще-то говоря, из меня вышел бы неплохой шахтер. Пусть я не здоровенного роста, а все же я тут насобачусь лопатой орудовать и, если повезет, попаду в число тех, кого берут на шахты, а не посылают воевать с немцами. Впрочем, по мне, лучше б ни того ни другого, а просто отправиться бы своим ходом на тот свет, когда придет пора».
Он работал теперь еще быстрее, чем раньше, побуждаемый какой-то внутренней силой, вонзая лопату в последние футы золы, насыпая ее в лоток и собирая ладонью остатки, которые неудобно было сгребать лопатой.
День уже кончился; сегодня он не видел, как рассвело, и не увидит, как стемнеет. Да если каждый день так будет, скоро спятишь. Тут ему пришло в голову, что он работает слишком быстро, потому что сердце у него бьется все чаще и чаще, в горле пересохло, а руки невыносимо болят. «С чего б это? — подумал он. — И ради чего? — спросил он себя. — Ну-ка скажи мне, зачем это? Куда ты торопишься как сумасшедший? Чего ты даже не передохнешь, болван?» Он прекратил работу, вытянулся на спине, и блаженное спокойствие вливалось в его тело, точно пинта густого пива. «И что за смысл так надрываться? Сегодня не закончил, закончишь завтра».
Но ему хотелось выбраться из этого подземелья, увидеть свет, вдохнуть свежего воздуха, пройти по улицам, овеваемым ветром, хотя бы для того, чтобы взглянуть на случайную звезду над темными крышами, чтобы уйти прочь отсюда, подальше, за тысячу миль. Он открыл глаза. «Нет, я эту поганую фирму брошу. Уволюсь и пойду еще куда-нибудь, даже если придется на работу пять миль туда и обратно на велосипеде ездить. Хватит с меня». Мысль эта утешила его, и лопата снова вонзилась в золу. Он то впадал в дремоту, то оживлялся, иногда голова у него словно становилась совсем пустой; он не сознавал даже, что продолжает думать о работе или о своем решении бросить ее, но какая-то искра вдруг вспыхивала в нем, и он начинал работать еще быстрее, чем раньше, яростно отбрасывая золу со своего пути.
Чья-то чужая лопата мелькнула перед его лицом и отбила кусочек кирпичной кладки, и вдруг где-то прямо перед ним в темноте загремел голос Билла Эддисона:
— Черт меня подери, если это не старина Брайн! Наконец-то мы покончили с этой дрянью!
Обняв друг друга, они хохотали, радуясь своей победе.
15
Сидя в пустой лагерной библиотеке за кружкой чаю, которую поставил около него на стол слуга-малаец, Брайн развернул полевую карту Пулау-Тимура. Из Сингапура прибыла новая группа радистов, наконец-то ему предоставили двухнедельный отпуск и отправили в лагерь отдыха в Мьюке. Он только что освежился под душем, и солнце еще не успело пропитать потом его одежду — на нем была безупречно белая рубашка и шорты, которые всего час назад принесла из стирки прачка-китаянка; палец его, скользнув от Муонга по береговой линии, остановился на Мьюке — окаймленном пальмами заливе напротив Гунонг-Барата, который отделен от него полосой воды всего в несколько миль, окрашенной в разные оттенки синего цвета. Прихлебывая чай, он блуждал глазами по карте: отпечатано в 1940 году, отметил он, исторический документ, и ему припомнился этот год — там, за холмами, вдали, словно айсберг, растаявший под вечным солнцем времени, — год, когда один за другим ушли в армию его двоюродные братья Колин и Дэйв, а потом через несколько недель вернулись обратно. Они вернулись у него на глазах, когда все уходили на войну, и, как ни странно, под молчаливым любопытством, с каким он смотрел на их гимнастерки, перекинутые через спинки стула, как шкуры убитых животных, скрывалось глубокое убеждение, что они поступили правильно и хорошо. Ада помогала им, и другие родственники тоже, потому что это отвечало их натуре и их традициям. Из десятка здоровых мужчин, связанных с их семейством узами близкого и дальнего родства, только двое, уйдя в армию, остались там, и один из них был убит в Тунисе. «А мы что говорили» — таков был приговор всех остальных, которые либо дезертировали, либо устроились на военных заводах. «Это, наверно, рекордная цифра для одного семейства, — подумал Брайн. — Никто не может сказать, что мы не внесли свой вклад в борьбу за свободу, хотя, что мне делать в этой стране, ума не приложу, только вот, конечно, войны тут сейчас нет».