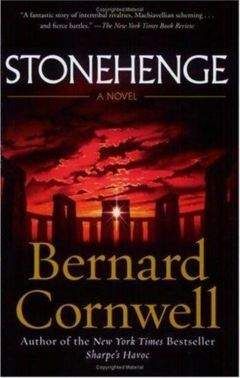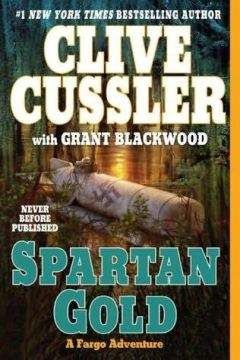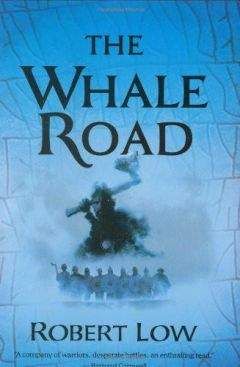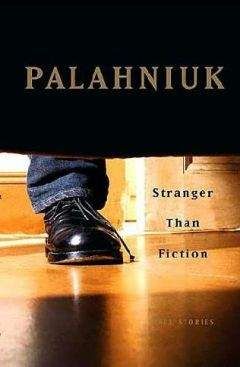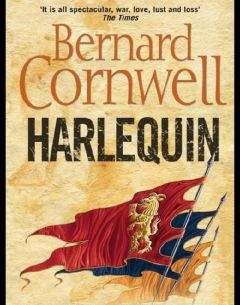Владимир Маканин - Портрет и вокруг
– Видишь, какой он простой в жизни. Кто это придумал, что он высокомерен – вот уж пальцем в небо.
* * *
Я тоже как-то побывал у них, я не отказался (Старохатов пригласил) – и вкусно у них пообедал.
– Посидите еще у нас.
После кофе пожилая, некрасивая и верная жена Старохатова пробовала затеять светский разговор, однако она была слишком естественна и слишком не лукава, – затеять затеяла, а поддержать не сумела. Не собеседница. Помучив себя и меня минут пять, она отступилась. А потом включила телевизор. А потом решила использовать опыт веков и, поколебавшись, робко сунула мне альбом с фотографиями. Последнее блюдо, которое и в самых снобистских домах иногда дают тебе после сладкого. Рассматривая фотографии, я тотчас отметил, что расположены они по моим периодам, меня даже кольнуло. Старохатов Павел Леонидович, оказывается, видел свою жизнь точно так же, как видел его жизнь я.
Старохатов сначала был молодой, и впрямь лихой, и впрямь быстрый, перетянутый поскрипывающими ремнями – это напоминало стоп-кадры фильма о военном времени, и фильм был знакомым.
В касках (у дороги).
В пилотках (у дороги).
С оружием (в окопе).
На двух снимках они стояли вкруговую возле «газика» – гордости и чуда военных корреспондентов. Фотографии были выцветшие, как и положено было быть фронтовым фотографиям.
Второй период: даже без пристального разглядывания (и без знания того, что знал я) было видно, что Старохатов сфотографирован здесь не в самые сахарные минуты жизни. Олевтинова в гриме. Олевтинова на съемке. Олевтинова в костюмерной. А он, Старохатов, стоит в общей толпе почитателей, стоит с наигранной бодрой улыбочкой, стоит стиснутый, и тут же стоят влезшие в кадр работяги осветители, одетые в хламиды и пожирающие кинодиву глазами, как и положено ее пожирать: ох, хорош бабец!..
А дальше пошли его собственные фильмы, Олевтиновой больше не было.
Первое фото. Целая вереница взявшихся за руки, кланяющихся, как болванчики, людей, и сначала не ясно, что это за цирк, – но дальше уже ясно: премьера фильма. И сам Старохатов в центре. Рука об руку с режиссером – оба они, как и все остальные, в полупоклоне.
И еще одна премьера. И еще. Становление Старохатова.
И тут же – параллельно – от фото к фото выстраивался личный мир художника. Семья. Дом. Третья жена. Опять верная и некрасивая, как окончательное решение загадки женской души для Павла Леонидовича Старохатова.
– Посмотрите, – сказал я, прихватывая двумя пальцами фото Старохатова в пилотке (Старохатов сидел у костра и пробовал кашу из большого походного ведра). – Не из этого периода фотография.
– Действительно. – Жена Старохатова мне улыбнулась. Гость оказался с пониманием. Смотрел. Не помирал со скуки.
– Я ее пристрою в начало, – сказал я.
– Куда?
– В военный период.
– Да-да. Конечно! – Старохатов засмеялся – ему понравилось.
Я пристроил, это было проще простого, а сам вернулся в третий период, в котором не по дням, а по минутам росла их семья, рос их сын Толя.
Троица – папа, мама и сын.
Семейство путешествует.
Семейство на Кавказе. Они вылезли из своей машины, перевесились – все трое – через перила моста и осторожненько плюют в шумящую горную речку. Все трое только этим заняты. Фото, чтобы посмеяться после.
И, разглядывая этих трех человечков и их махонькую машину среди гор-великанов или в мрачном ущелье, ты вдруг думал, что, может, это действительно и есть то, что ищут и иногда находят. Оно самое. Счастье. Именно ради этой минуты, ради этой спокойной возможности поплевать в холодную горную речку, трудился и хорошо лил пот Павел Леонидович Старохатов.
А потом было последнее – Мастерская. Мэтр, окруженный учениками.
А потом я захлопнул альбом и простился с хозяйкой, с хозяином.
* * *
…И если я не напишу повесть-портрет, это будет то, что зовется непроизводительными расходами: труд впустую, вот как это зовется. А на труд впустую ты не имеешь права. Потому что у тебя семья. Потому что ребенок.
И тогда я спросил себя: а что ты сделаешь с недопонятыми случаями соавторства – с теми случаями, когда он грабил ребят?
И ответил: отброшу.
И еще я спросил: как же так?
И ответил: а вот так. Не было этих случаев. Не видел. Не слышал. Не понимаю, о чем это вы.
С антресолей я снял картонную коробку, это была обычная магазинная коробка из-под печенья – там было собрано всё о Старохатове. Всё, что я собрал за эти месяцы. Сценки. Чёрточки. Штрихи биографии. Разговоры, которые я припомнил. Разговоры, которые я узнал и записал.
Материал был готов и уже давил, ждал меня, аккуратно расположенный по все тем же периодам жизни Старохатова. Война к войне. Олевтинова к Олевтиновой. И так далее. Я начал, но дальше одной-единственной фразы не сдвинулся.
«В тихий предрассветный час лейтенант Марийкин подошел ко взорванному мосту», – тут (у моста) он присядет и будет думать о погибшей семье. И о себе. И о войне. А впереди у него женитьба на актрисе. И фильмы. И новая семья. Но ничего этого лейтенант еще не знает… Я перечел фразу, и во рту стало кисло. Я, конечно, догадывался, что, если буду писать о «подправленном» и «улучшенном» Старохатове, неминуемо сделаю дешевку. К тому же случайным образом улучшение было как бы уже связано с тем, что меня хорошо приняли у Старохатова. Покормили, и кофе я пил. И обещал бывать. Сладкого покушал.
«В тихий предрассветный час лейтенант Марийкин подошел ко взорванному мосту», – я не сводил глаз с этой фразы, и во мне что-то тихо распадалось. И распалось. И хлынула та самая пустота, которая уже несколько дней собиралась хлынуть – еще со времени Минска и той гостиничной койки. (В тот же день из-за какого-то пустяка мы вдрызг разругались с Аней, и я собрал чемоданчик.)
Глава 9
Среди зимы я оказался в небольшой деревеньке. В небольшой, занесенной, завьюженной и как бы богом забытой. Я только и делал, что лежал и чуял боками тепло, то правым боком, то левым. У родителей не было русской печки, но лежанка от гудящей печи все же прогревалась, и уже в седьмом-восьмом часу утра я чуял это тепло и слышал сквозь дрему (первые звуки утра) шаркающие знакомые шаги.
– Матушка, – звал я.
В голове пусто. И полная расслабленность. А голос – будто и не твой голос – утробно и сипло зовет:
– Матушка!..
– Воды, что ли?
– Ага…
Она еще пошаркала там и сям и вот уже подавала дрожащий ковшик. В нем было до половины воды – самый раз.
Через полчаса сквозь дрему я опять слышал ее шаги – шур-шур-шур, она ходила по дому, вся в своих привычных заботах и ежедневных делах, которые все равно не переделать, но которые обязательны, как обязательны у человека руки и ноги. Из дома не уйдешь. Из деревни не выпрыгнешь. И так просто и быстро стала моя мать деревенской бабой. Но как-никак она сорок лет проработала библиотекарем. Как-никак в школе. И, уже отойдя – там уже не работая, она некоторое еще время держалась. Читала. Обсуждала что-то. Но теперь пришла совсем уже старость, поздняя старость. И матушка уже никуда не ходила, кроме как на рынок. А дома стала кряхтеть, откашливаться и ходить враскачку, как все старухи. И речь – вот что удивительно! – речь ушла, как уходит вода из нового русла в старое. Вместо почти безукоризненных периодов появились размытые, глухие слова с неверным ударением, с «шабрами», с «мы хочем» вместо «мы хотим» и всеми прочими блестками. И куда все девалось. Давнее, детское – казалось бы, навек забытое – вернулось в плоть и в кровь за каких-то три-четыре года. Это жизнь.
– Матушка!..
Она шаркала – подходила совсем близко.
– Еще водицы?
– Ага.
Приходил кто-нибудь из соседей – шумно обивал в сенях нога об ногу снег, затем счищал его веником. А войдя в жилую комнату, все топтался, будто обивал остатки.
– На базар машина пойдет завтра, – докладывал он матушке.
– С утра?
– В обед. – А затем он сообщал новость: председатель и его шофер Ванька обморозили щеки. Председатель вроде ничего, а Ваньку будут резать.
– Ос-споди! – всплескивала мать руками.
– Дела-а-а…
– Как же это они? Застряли, что ль?
– Не. Просто ехали.
Потом начинался шепот. Это обо мне. Пришедший хотел хотя бы словцом перекинуться – нельзя же так! Если сын «библиотекарши» не слазит с лежанки, не кажет носа на улицу и, стало быть, больной, надо знать, чем он больной. Грудь или голова? Или, может, расшибся? поранился сильно?.. Чего ж тут скрывать…
– Не больной он, – в десятый раз объясняла матушка. – Переутомленный.
– Чем же это он переутомился?
– Жизнь такая!
– Такая уж тяжелая?
– Тяжелая не тяжелая, а вот переутомился…
Они уходили. Я протягивал руку, отшторивал занавеску (она закрывала и отгораживала меня, лежащего на лежанке, как бы пологом) и закуривал. Лежать, чуять тепло боком и обволакиваться дымом – вот и занятие. «Посреди сигареты» я свешивал ноги с лежанки и докуривал сидя. Потом вяло спрыгивал на пол. Выходил ненадолго – и только во внутренний наш двор, надев отцов тулуп и его же валенки. Так было проще. Выйдя, сидел на чурбаке и, жмурясь от пурги, смотрел на опустевший наш огород (а вокруг выло и мело) и на наши жалкие, голые и почти утонувшие в снегу четыре яблоньки.