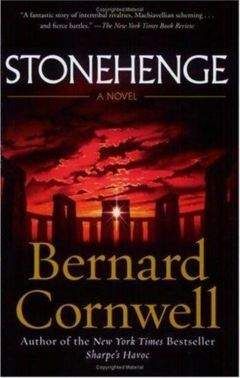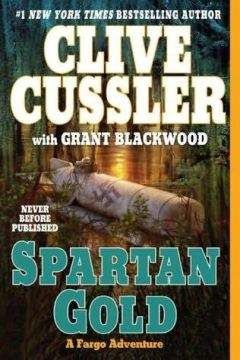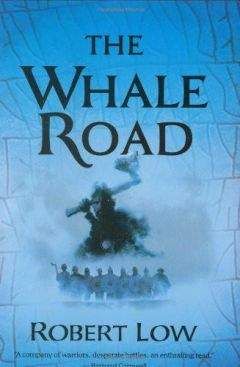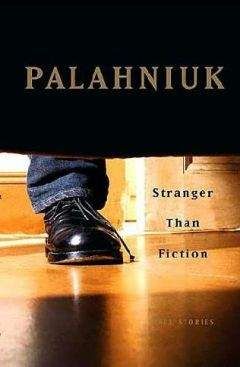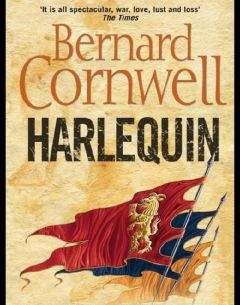Владимир Маканин - Портрет и вокруг
– Для меня это была серьезная встряска. Понадобился год после этого – у вас в Москве на гастролях меня тоже в тот плохой год ругали…
– В театре вы по-прежнему играете?
– Да.
– Что сейчас идет?
Мы поговорили и об этом – она порекомендовала два спектакля. А затем из-за такой вот театральной декорации вышел на сцену мой вопросик – выполз довольно буднично, как третьестепенный актер, знающий себе цену.
– Но, быть может, – спросил я, – Старохатов был благороден и ушел, как вы сказали, в одной рубашке, однако с прицелом?
– Не поняла…
– Он ведь от вас в Москву уехал, – может быть, его в Москве уже ждали?
– В Москве?
– Ну да. Почему же не быть благородным, если он уехал от вас – извините за оборот – к еще более вкусному куску пирога?
И я совсем уж в лоб:
– Может быть, он от вас ушел к другой?
– Вы спрашиваете сейчас как – извините меня тоже, – как для протокола.
Олевтинова одернула меня.
– Простите, ради бога, – спешно произнес я, – увлекся…
– Похоже.
– Я ведь немного чокнутый, как все, кто только что с поезда.
Она засмеялась:
– Сделаю вам скидку.
– А все-таки вопрос остался вопросом, – сказал я, тут же распрямляясь, как распрямляется ванька-встанька, и глуповато улыбаясь, как он же.
Я не желал терять времени. А главное, не желал терять, как выражаются хирурги, подхода – ткань порезана, мышцы раздвинуты, делай дело сейчас.
– Это ведь важно, Анна Степановна. Мне, к примеру, важно…
– Что ждало его в Москве?
– Да, – спросил я, – что?
– Ничего не ждало.
– А вот мне говорили, что он не остался на всю жизнь с разбитым сердцем – женился. И семья. И ребенок.
– Это уже позже.
И она рассказала, что первые два года пребывания в Москве Старохатов был гол и бос. Перебивался кое-как. Жил у знакомых, которые охотно пускали его пожить на май или на ноябрьские, когда в большой квартире и без того шумно и людно и лишний человек не помешает, которого, кстати, можно послать в гастроном, на почту или куда-нибудь еще, если руки-ноги у него в порядке. А руки-ноги были в порядке. Но в будни от него старались избавиться. Кормили и поили, но все же сплавляли в другой дом. За два года он сменил углов восемь – десять и уж наверно научился неслышно ступать в вечерние часы по чужим коврам и половицам. И неслышно стелить себе в углу. И еще более неслышно завтракать в одиночку, когда хозяева еще спят.
– И он ни разу не приехал? Ни разу не попросил у вас денег или помощи – так сказать, по старой памяти?
– Нет.
– Но если он ушел в одной рубахе, значит, здесь оставались его вещи?
– Он не подавал на раздел имущества. Вещи поэтому были мои.
– Но должно же было хоть раз сработать в нем хапанье! За два-то бездомных года! (Я так и сказал хапанье – обмолвился, само вырвалось – шутка ли, все мое рассыпалось на глазах!)
– Какое хапанье?
– Ну так… Это так… Это про деньги, – залепетал я. – Но ведь не был же он тогда уверен, что станет Старохатовым!
– Не знаю… Знаю только, что за четыре почти года, которые мы прожили, я заметила в нем лишь одно чувство к деньгам.
– ?
– Брезгливость.
Вот именно. Черным по белому. И я почувствовал, что меня треснули обухом – притом не как-нибудь, а по темени, как бычка, обухом и без иллюзий. Если женщина, живя бок о бок, за четыре почти года ничего такого не учуяла, можешь считать, что не учует никто. Потому что там нечего учуять.
Но я еще держался.
Когда факт сам по себе убедителен, у тебя еще остается возможность усомниться не в факте, а в человеке, от которого факт исходит.
– Значит, два этих года в Москве он бедствовал?
– Очень.
– А как вы это узнали?
– От моей мамы – она жила в Москве. И мне сообщала все, вплоть до подробностей. Моя мамочка – она, знаете ли, была суровая женщина. Без эмоций. Как статьи вашей энциклопедии. Только факты…
– А каким образом узнавала о нем она?
– Она вообще киношные круги отлично знала. Всю подноготную. О каждом.
– Актриса?
– Да. Сейчас ее уже забыли.
Я много спрашивал и на все получал исчерпывающие ответы – отстоявшиеся, как отстаивается со временем взбаламученная вода. Чистые ответы. Прозрачные. Если бы за Старохатовым в первые московские годы послеживала и поглядывала подруга Олевтиновой или даже сестра, я мог бы сомневаться. Попытался бы сомневаться. Поискал бы «за» и «против». Но что можно было выставить против всевидящей мамаши, которая «без эмоций» и которая похожа на том справочника? Тут можно было только одно – смириться. И я смирился.
* * *
И, выждав минуту, пошел козырем. Последним.
– Говорят, – и я завис, как зависают перед шагом, когда неизвестно куда ступишь, – он привез с войны какие-то вещички.
У меня, должно быть, было поганое при этом лицо.
– Что?
– Вещички, – сказал я. – Вещички.
– Вы, оказывается, кое-что прослышали.
– Кое-что.
И меня еще раз хлопнули по темени. На большом старинном комоде стояли гипсовые статуэтки (копеечной цены) – Ника Самофракийская, Аполлон Бельведерский и тому подобное массовое производство. Я даже разглядеть не успел их толком, так был посрамлен и ошарашен. Штук шесть дешевеньких статуэток. Гипс. Высота каждой десять – двенадцать сантиметров. Подобрал на дорогах. Проснувшаяся на излете войны тяга к искусству.
– Павел их купил на каком-то рынке в Австрии, – рассказывала Олевтинова. – А знаете, в чем он их привез?
– В чем?
– В вещмешке.
Она засмеялась.
Я тоже вымученно усмехнулся. И тупо сказал:
– Тяга к искусству.
– Да… Там, на дорогах, он очень ими дорожил. Таскал за собой. А ведь гипс, бьющиеся вещи. Как вы говорите, вещички.
Я смотрел на статуэтки не отрываясь и не видел их. Они смотрели на меня и тоже не видели. Безглазые. Античный стиль.
Я спросил последнее. Хотя уже угадал ответ.
– Из-за них вы поскандалили при разводе?
– Да.
– Почему?
– Он хотел их взять.
– Как память?
– Да… Он ушел гол и бос. Единственное, что он хотел при разводе взять, – свои статуэтки.
– Это я понял. Я спрашиваю – почему вы не хотели отдать?
Она пожала плечами:
– Не знаю…
И она рассказала, как было. Это было при людях, в присутствии знакомых, отчасти друзей. Одну из статуэток Старохатов и Олевтинова разбили вдребезги, не удалось даже склеить. Они вырывали ее друг у друга. Нервы были на пределе, и какое-то случайное слово привело к вспышке и скандалу. А знакомые и друзья следили, упадет статуэтка на пол или не упадет, и впитывали в себя всякое хлесткое выражение последней их ссоры.
* * *
И вот – меня как будто выключили, как лампочку. Нет, я еще сумел проститься: актриса Олевтинова и пришедшая из гостей ее сестра (женщины жили вдвоем в квартире, поджидая старость) проводили меня до старомодного лифта – я спустился, где-то влез в троллейбус, а затем наконец добрался до гостиничной койки и лег ничком.
* * *
О своих неоправдавшихся поисках и о том, какая громадная пустота вот-вот начнет сосать меня изнутри, я старался попросту не думать. Я постарался впасть в инерцию. Шаг за шагом, только так. Я позвонил Невельским. Я побрился. Я поехал. Я даже старался быть милым – все как раньше.
В. Невельский и В. Невельская, как сразу же выяснилось, любили Старохатова. Расписывали Павла Леонидовича лучше не бывает. Он помог им написать сценарий. Замечательный человек! Теперь все это звучало как пародия на мои поиски, этакие (после Олевтиновой) дополнительные плевочки – и эти-то плевочки я теперь собирал (нажимал в нужную минуту рычажок магнитофона), потому что даже такое – по инерции – собирание было хоть что-то. Хоть какое-то дело.
– Скажите! – удивлялся я. – Какой, оказывается, он человечище!
– Да, – говорили Вика и Володя Невельские, – человек, истинный человек!
– И денег не взял!
– Ни копейки, – говорили Вика и Володя.
– А ведь вполне мог быть вашим соавтором.
– Разумеется…
– А вы предлагали ему соавторство?
– Да. Несколько раз.
– Ну, вы подумайте! – всплескивал я руками. – Деньги не взял. Денежки – а они ведь рядом лежали, только руку протяни. Такую сумму не взять. Подумать только!
Невельские тихо переглянулись: не шиз ли я?
– Подумать только! – охал и ахал я, уже не выдерживая разговора, который сам же им предложил.
Внешне поведение мое, видимо, выглядело, как поведение стопроцентного жлоба, который привык жить с жлобами и который рубля не одолжит тебе до завтра. Из тех, кто глотает слюну, когда кому-то повышают оклад на десятку. «Какие деньги! Какое благородство!» – чуть не вскрикивал я. Это была уже самопародия, признак надвигающейся пустоты. Я вдруг почувствовал, что в шаге от истерики, – я даже на миг заглянул в омутные ее глазки: вот она какая. Но проскочил.