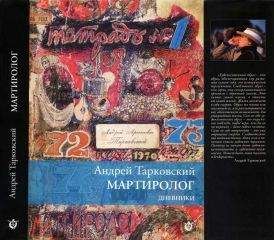Николай Болдырев - Жертвоприношение Андрея Тарковского
Вспоминается один сон Тарковского, который назойливо-периодически снился ему и о котором он как-то рассказал художнику Михаилу Ромадину: "Мне снится, что я иду вверх по лестнице в каком-то подъезде, вроде бы московском, или внутри какой-то шахты со стенами из красного кирпича.
Внутри шахты лестница, примыкающая одной стороной к стенам, а другой выходящая на перила, которые вьются змеей вверх до бесконечности. Время от времени встречаются площадки с выходами в квартиры. Мне нужно попасть в мою старую квартиру, где мы жили с Ирмой, я поднимаюсь, стараясь держаться поближе к стене, потому что лестница все время обламывается, куски ее летят в пропасть шахты. <...> Вариант, когда я все-таки дверь открываю, - самый страшный... Я попадаю в длинный коридор... Ободранные обои, паутина. Я иду по этому коридору, преследуя какую-то цель. А цель эта - зеркало, стоящее в торце коридора. Зеркало - в паутине, с частично вздутой амальгамой. Я смотрюсь в него, вижу свое отражение... Но это - не я! Из зеркала смотрит молоденькое и пошлое лицо провинциального красавца. Я просыпаюсь, но последней мыслью во сне было: зачем я это сделал? Зачем я свое нормальное лицо заменил на такую бездарность?"
То же самое, что и у Гофмана, экстатически-безумное выслеживание своего подлинного лица. "Кто я?" - вопль Гофмана-Тарковского из конца в конец жизни.
"Сталкер". 1979
Большинство писателей пишет всю жизнь одну и ту же книгу, перепевая вариативно самих себя, некий однажды природно "вылупившийся" текст-образ. Большинство кинорежиссеров снимает всю жизнь кино одного метода-качества - идет простое "пространственное" размножение. Тарковский совершал скачки, прыжки внутри самого себя. "Зеркалом" он определенно подвел некую черту; настолько, что в дневнике планировал бросить кино совсем и засесть за художественную прозу. Признавался, что лишь поток писем от зрителей побудил его продолжить трудиться в жанре, столь технологически запутанном, сложном и столь изнурявшем его. Шум кинопроизводства отвращал Тарковского, человека принципиально внутренне уединенного.
"...Он же вообще хотел какое-то совершенно другое кино делать, - вспоминала М. Чугунова. - Чтобы не было ни рамки экрана, ни двухмерного изображения (он голографией очень интересовался), ни сюжета, вообще ничего... У него была такая мечта: надеваешь специальный шлем - и все, что ты в этот момент представляешь себе, отпечатывается на пленке. Ему ужасно мешало, что кто-то делает что-то за него: стоит, например, за камерой. Или что-то еще. Некоторые операторы считали, что он не доверял оператору, ездил на тележке за него. Ну что он, Нюквисту не доверял, что ли? Но тоже ездил на тележке. Будь у него возможность, он бы все делал сам. В идеале он хотел бы быть один на один с пленкой. И даже без пленки, честно говоря..."
Тарковский сказал однажды, что, когда кино уйдет из-под власти денег (в смысле производственных затрат), когда будет изобретен некий волшебный материал для автора фильма (подобно тому, как есть перо и бумага у поэта, краска и холст у художника, резец и мрамор у скульптора), вот "тогда кино станет первым искусством, а его муза - царицей всех других". Он мечтал о кинопроизводстве как чистой, беспримесной поэзии.
Тарковский много раз менялся, однако мало кто, а может быть, и вообще никто этого не заметил*.
* Ср. перемены в ментальности, в "психической мускулатуре" и пластике его лица за четверть века, прошедших от "Иванова детства" до "Жертвоприношения". Изучая фотоснимки, мы видим, как сменяются вселенные, миры. В двадцать девять лет Тарковский на снимках еще совсем мальчик, ершистый и доверчиво-ласковый одновременно. После пятидесяти - это человек, словно бы пропеченный трагикой, прогретый всей горечью и всей мукой земных недостижимости. Мы видим на фотоснимках не одного человека, а людей четырех-пяти разных ментальных эпох. Нет старения, дряхления, как это обычно отмечают фотографические оттиски, есть трансформация.
Существует мнение, будто Тарковский "всю жизнь снимал одну картину". Это верно лишь в определенном смысле: его кинематограф словно бы Прорастает из одного зерна, из единого корня; это одно дерево с разными ветвями. И в то же время каждая новая ветвь вырастала все выше и выше от земли, все ближе к небу.
Окружение Тарковского интересовалось почти всецело проблемами художественного, то есть эстетического самовыражения. До отъезда Тарковского из России никто из писавших или говоривших о нем не замечал подлинной природы неослабевающей ностальгии его героев, тоскующих по невидимой материальными очами родине.
"Зеркалом" режиссер подвел под своим прошлым столь серьезную черту, что отказался от ряда привычно-эмблематичных вещей и "талисманов": не снял Огородникову, не снял яблоко и не снял лошадь. Вместо яблока в "Сталкере" - подгнивший апельсин возле кровати, вместо лошади - собака (перейдет в "Ностальгию"). Однако это внешнее. Глубинное - отказ от многообразия приемов и от смешения временных потоков. Устремленность к предельному аскетизму форм и средств, к "классицистическому" единству места, времени и действия. "В "Сталкере" мне хотелось, чтобы между монтажными склейками фильма не было временного разрыва. Я хотел, чтобы время и его текучесть обнаруживались и существовали внутри кадра..."
Соответственно и внешнее поведение Тарковского меняется: он становится все более сдержанным в общении, самоуглубленным, а порою отстраненно-недоверчивым и даже жестким. "Русские национальные черты", в частности пьянство, разгильдяйство и распущенность, перестают его умилять*.
* Характерный образчик конфликта режиссера и труппы воссоздают воспоминания звукорежиссера Владимира Шаруна, рассказавшего как-то об истории с выпавшим внезапно в июне (!) снегом, испортившим натуру настолько, что съемки "Сталкера" полностью прекратились.
"Группа простаивала уже в течение двух недель, и многие от тоски начали сильно выпивать. Тарковский понимал, чем все это грозит, и решил действовать. Мы жили в дрянной гостинице на окраине Таллина, где у меня единственного был телефон в номере. Однажды вечером Тарковский позвонил и попросил передать всем, что назначает съемку на завтра на семь утра. Но это легко сказать! Мой помощник за время простоя стал с тоски пить "Тройной" одеколон и закусывать сахаром! Когда я зашел в номер к Солоницыну, то увидел, что Толя вместе с гримером тоже находился в очень расстроенном состоянии. Когда он узнал, что завтра утром съемки, он пришел в ужас!! К Андрею Арсеньевичу он относился как к Богу. Его гример хорошо понимал в своем деле и велел срочно достать три килограмма картошки, натереть ее на терке и положить на опухшее от двухнедельной пьянки лицо компресс. Но где достать картошку в гостинице в три часа ночи? Я побежал к сторожихе какого-то магазина, она доверила мне охрану, а сама отправилась домой за картошкой. Я натер для Солоницына целый таз картошки, так старался, что стер руки в кровь, и с сознанием выполненного долга удалился к помощнику. Возвращаюсь назад - и что же я вижу?!
Требовательность его возрастает, что сразу ощущает труппа, возникают конфликты, ссоры, уходы. Период благостно-романтических съемок закончился безвозвратно. Происходит целая череда трансформаций в съемочном коллективе, словно бы некий отсев-переплавка, когда остаются лишь те, кто способен мыслить смиренными и "средневековыми" категориями "служения". (Как тут не вспомнить любимого Тарковским Йозефа Кнехта у Германа Гессе, чей идеал -истоко-кроткое и умаляющее свое эго служение Игре.)
Отсев шел не только на уровне ассистентов режиссера. Главного художника А. Бойма Тарковский уволил за пьянство (о том записи в "Мартирологе"). Следующим главным художником стал Ш. Абдусаламов, однако тоже ненадолго. (В мемуарах он, конечно же, винит во всем "Лару", которая "участия в наших беседах не принимала, но курировала, да еще как. То вплывет в кружок с чашечкой чая, то обойдет всех с сахаром, все такая же пышная, но уже не теплая, а жаркая, душная, как ватное одеяло. Андрея дергало: "Лара!" Но Лара не слышала...") В итоге Тарковскому пришлось самому стать главным художником, благо Лариса нашла в Казани, где она периодически лечилась, художника Рашида Сафиуллина, "который боготворил Тарковского и, будучи допущенным к нему Ларисой, готов был "пахать" на него день и ночь. Я (О. Суркова, киновед, много лет дружившая с Ларисой Тарковской. -Н.Б.) никогда не видела его за бутылкой, он не включался в нашу "общественную" жизнь, но вся живописная фактурная насыщенность кадра в "Сталкере", замысленная Тарковским, на практике исполнялась именно им. Не знаю, сколько и что именно успел сделать Бойм, но Рашид оказался той безотказной рабочей лошадью, на которую была взвалена вся работа с фактурами в кадре. Этот тихий, как будто незаметный, невероятно работоспособный человек, по-моему, просто жил и спал (мало!) в декорациях. "Рашид, Рашидик", как любовно окликал его Андрей, был тем замечательным фанатом, который ради святого искусства был готов пахать изо дня в день: царапать и бугрить стены, наводить на них трещины, выкладывать мхи, "разводить" плесень, сажать и вытаптывать цветы, снова синить или серебрить листву - осуществлять на практике руками все то, без чего немыслим кадр Тарковского. И все тихо, в стороне от всех. Именно с такими людьми, очевидно, и делается авторское кино. Тем более такое прихотливое, как у Тарковского".