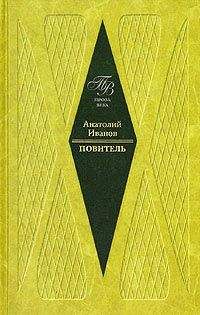Анатолий Иванов - Вечный зов
— Волшебство какое-то! Я всё это и сам хотел посмотреть, и вам показать, а вы…
— Разве за этим мы едем сюда, сынок?
— Не за этим, мама, — смутился Андрей. — Но за эту красоту наш Сёмка жизнь отдал.
— Он отдал её за свою Родину! — зло проговорил Дмитрий. — Понятно тебе?
— Понятно. Я же говорю в условном смысле…
— А я — в конкретном. Не люблю условностей.
— Дима, Андрюша! — попросила Наташа. — Не ссорьтесь.
— А мы не ссоримся, — ответил Дмитрий. И с какой-то угрозой кому-то пообещал: — Я стихи об этом напишу. Конкретные. О том чувстве, которое было здесь у Семёна и у таких, как он.
В Тронхейм потом они ехали тоже морем, вдоль побережья. Харальд Кнютсен, предупреждённый Эстенгеном, встретил их в порту. Он оказался человеком тоже сердечным. Но русского языка почти не знал, если не считать отдельных слов, которым он, по его сообщению, научился от «русского Савелия». Эстенген был превосходным переводчиком.
Когда Анна подала Кнютсену фотографии Семёна, он прямо весь вспыхнул.
— О да! Это он, наш «русский Савелий»! — Потом обмякнул, виновато опустил и без того покатые плечи. — Очень, очень похож…
— Похож или точно он? — спросила Наташа.
— Вы знаете, сначала мне показалось… Но с уверенностью я не могу сказать. Он, «русский Савелий», пришёл к нам в горы небритый, моя сестра Гюри его привела. Он был сильно ранен. Раны у него ещё болели. У нас была партизанская группа в семь человек всего. Он был восьмым. Он был странным, всё время почти молчал. Мы думали — потому, что ранен. Но когда раны зажили, он продолжал молчать. И не брился почему-то, лишь немного подрезал бороду ножницами.
— Может быть, он вам… или вам, Сигвард, рассказывал что-либо о своей прежней жизни? — спросила Наташа.
— Нет, — сказали оба норвежца.
А Сигвард Эстенген добавил:
— Однажды он, кажется, сказал мне, что родом из Сибири. Да, это он сказал, а больше ничего.
— У вас не сохранилось листовки, в которой фашисты назначили цену за его голову? — спросил Андрей у Кнютсена.
— Нет, к сожалению.
— Расскажите всё, что вы о нём помните. Всё, всё! — попросила Наташа.
— Я же говорю — он в основном сидел и молчал.
— Как же так — сидел и молчал? Вы же партизанами были.
— О-о! — протянул Кнютсен. — Я читал, читал о русских партизанах. Но у нас было не так. Всё не так. Крупных отрядов у нас не было, у нас были небольшие группки, по шесть — двенадцать человек. Мы укрывались в горах. Мы не воевали, как русские партизаны, не сбрасывали с рельсов поездов. Мы нападали иногда на маленькие немецкие гарнизоны, это было. На автомашины. Если военнопленные где-либо работали, а охраны было мало, мы пытались отбить пленных. Но концлагеря были в основном на островах. Понимаете? И мы, партизаны, выпускали подпольные газеты и листовки, чтобы информировать население о положении на фронтах. Для нашей группы это была основная задача. Мы имели у себя в горах батарейный радиоприёмник и небольшую типографию. Когда мы слушали радиоприёмник и записывали сообщения, составляли листовки, Савелий сидел и молчал. Целыми днями так. А потом брал гранаты или взрывчатку, если это у нас было, вставал на лыжи и уходил.
— Зачем же вы его пускали?! — вскрикнула Наташа.
— Он не слушался.
— Да вы же командир!
— Но он был русским… Мы не могли его заставить остаться. Он возвращался через несколько дней, и мы не знали, откуда, он ничего не объяснял.
— Хороши партизаны! — усмехнулся Дмитрий.
— Да, у нас так было, — виновато сказал Кнютсен. — И мы по радио лишь потом узнавали, куда и зачем он ходил и что сделал… Немцы сообщали, что бандит по имени «русский Савелий» взорвал кинотеатр в Бреннёсунне или поджёг теплоход с немцами в порту, испортил несколько паровозов в депо Тронхейма. Оказывается, он всегда посылал потом по почте в немецкую комендатуру письмо: «Сделал это русский Савелий. Я ещё доберусь и до тебя, свинья Требовен…»
— Требовен — это рейхскомиссар оккупированных областей Норвегии, — пояснил Эстенген. — Савелий-Семён всегда делал такую приписку… Зачем он вообще посылал эти письма немцам, я не знаю. Не надо было этого делать, наверное.
— Да, но он это делал…
— Как погиб… он? — задала Анна вопрос, который никто задавать не решался. Она в Норвегии ни разу ни у кого и ничего не спрашивала, задала только этот один-единственный вопрос.
— Это случилось в начале марта сорок пятого на том месте, где стоит ему памятник. Мы возвращались из Бреннёсунна и попали в засаду. В город мы ходили за батареями для своего приёмника и за продуктами. Была ночь, мела пурга, нас было четверо. Немцы нас окружили неожиданно. Мы отстреливались, пока были патроны. Во время перестрелки двое наших товарищей были убиты, остались мы с ним только. И патронов нет… Одна граната лишь осталась у Савелия. Противотанковая. Он взял её у бреннёсуннских подпольщиков для какой-то своей новой диверсии… И он мне сказал: «Я сейчас отвлеку их, а ты, Харальд, прикинься пока убитым, а потом иди к товарищам в отряд. Отомстите потом за меня…» Я не понял, как он собирается их отвлечь. А он закричал: «Schießen Sei nicht! Ich bin Russe, ich heiße Sawjeli. Ich ergebe mich».[30] Эти слова произвели магическое действие, немцы стрелять перестали. А Савелий повторил: «Ich bin allein. Ich ergebe mich».[31] Он встал, поднял руки, пошёл сквозь пургу. Я до сих пор вижу, как он идёт с поднятыми руками, а вокруг него крутятся тучи снега… Он шёл будто окутанный дымом, на спине у него был парусиновый мешок…
— И что же… дальше? — с трудом выговорил Андрей.
— А дальше… когда немцы окружили его… раздался чудовищный взрыв.
Едва он это произнёс, послышался стон Наташи, короткий и мучительный. Он затих, и в квартире Кнютсена установилась долгая тишина.
— Так это было… В начале марта, во время сильной пурги, — нарушил Кнютсен наконец безмолвие. — Взрыв был настолько сильным, что я думаю… у Савелия была ещё какая-то взрывчатка в мешке. Пламя чуть до меня не достало… Что же мне было делать? Я воспользовался тем взрывом, отполз в темноте за камень, а потом побежал сквозь ветер и снег. Немцев там в живых почти не осталось, они не видели, как я уполз и побежал… Вот так произошло это. Пурга дула ещё дня три или четыре. Немцы хоронить своих погибших солдат не стали, да и мы своих не смогли — всё замело снегом. Мы похоронили их уже весной, когда трупы вытаяли. Это уже в конце апреля было. В Бреннёсунне ещё тогда немцы были, но война шла к концу, немцы собирались из Норвегии уходить, родственники тех двух наших погибших товарищей привезли их в город в открытую, похоронили на городском кладбище, фашисты этому воспрепятствовать не осмелились. А Савелия мы похоронили именно там, где он погиб.
— Что же… от него осталось? — опять спросил Андрей.
— Да почти ничего, — неопределённо проговорил Кнютсен. Помолчал, вздохнул и ещё раз промолвил, будто уточняя: — Совсем почти ничего… А через год поставили на могиле тот скромный каменный памятник…
* * * *На другое утро Анна, поглядев в узкое окошко отеля на матово-синий залив, на поднимающиеся с водной поверхности лоскутья тумана, на чёрные и как будто мокрые каменистые кручи, уходящие далеко в море, проговорила, обращаясь почему-то к Дмитрию:
— Поедем отсюда, сынок. Мне здесь тяжело.
Из Тронхейма до Осло снова ехали в скрипучем и тесном вагончике, в Осло пересели на теплоход. Теплоход был советский; ступив на палубу, Анна обессиленно вздохнула и посветлела лицом:
— Вот уже будто и дома…
Когда подплывали к Ленинграду, она неожиданно спросила у Дмитрия:
— Ты стихи хотел, сынок, какие-то написать?
— Я их написал, мама, — ответил Дмитрий.
— Ну, почитай.
Они все вчетвером стояли на палубе, теплоход шёл по Финскому заливу, уже замедляя ход, впереди виднелись очертания города, медленно поднимавшегося, казалось, прямо из воды.
— Стихотворение называется «Чувство Родины», — сказал Дмитрий, глянув на Андрея.
— Это те, конкретные? — спросил тот.
— Те самые, — подтвердил Дмитрий и негромко начал читать:
Родина, суровая и милая,
Помнит все жестокие бои…
Вырастают рощи над могилами,
Славят жизнь по рощам соловьи…
Что грозы железная мелодия,
Радость или горькая нужда?!
Всё проходит.
Остаётся Родина —
То, что не изменит никогда.
С ней живут,
Любя, страдая, радуясь,
Падая и поднимаясь ввысь.
Над грозою торжествует радуга,
А над смертью
Торжествует жизнь.
Медленно история листается,
Летописный тяжелеет слог.
Всё стареет.
Родина не старится,
Не пускает старость на порог.
Мы прошли столетия с Россиею
От сохи до звёздного крыла.
А взгляни —
Всё то же небо синее
И за Волгой так же даль светла.
Те же травы к солнцу поднимаются,
Так же розов неотцветший сад,
Так же любят, и с любовью маются,
И страдают, как века назад.
И ещё не мало будет пройдено,
Коль зовут в грядущее пути.
Но светлей и чище чувства Родины
Людям никогда не обрести.
Медленно
История листается…
Всё пройдёт,
А Родина останется.
Он читал негромко, не спеша и почти без всякого выражения, делая иногда еле заметные акценты лишь на отдельных словах. Но именно такая манера чтения подчёркивала огромный глубинный смысл стихотворения, взволнованность самого Дмитрия. У Наташи заблестели глаза. Андрей думал о чём-то, опустив голову. А потом поднял её, произнёс почти шёпотом: