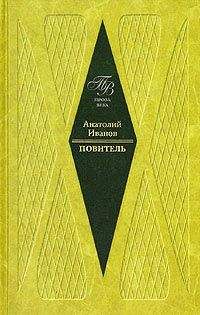Анатолий Иванов - Вечный зов
— Семён, — поправил Андрей.
— Да, Семён… Он вышел на середину трюма и закричал, требуя перевести его слова всем. В барже были и норвежцы, как я, и финны, и голландцы, и поляки. И много других. Он потребовал спокойствия. «Если бы фашисты хотели нас уничтожить, — говорил он, — они бы сделали это ещё в болотах тундры. Но не сделали, — значит, мы им зачем-то нужны…» Логика в его словах успокоила всех. «Слушаться меня!» — потребовал он… Да-да, он, понимаете, он, оказывается, раньше других понял значение этой речи короля. Он спросил меня на другой день с улыбкой: «Норвежцы, Сигвард, слушаются своего короля?» — «Иногда…» — пошутил я. «Понятно, — сказал он. — Самое время теперь бежать, едва представится хоть малейшая возможность».
— И когда… она представилась? — спросила Наташа нетерпеливо.
— Дня через три, кажется, — подумав, ответил Эстенген. — Во время всего пути нас не кормили, рыбу мы, понятно, давно всю съели. Давно мы уже стояли где-то, сверху, по палубе баржи, слышны были шаги охранников. Судя по этим шагам, их было всего двое. «Где мы стоим, определить! — потребовал Семён. — В Норвегии или нет?» Трюм был глухой, без иллюминаторов, он освещался двумя керосиновыми фонарями. Но это было в начале пути, потом керосин кончился, мы плыли в темноте. Мы стучали снизу в крепкий люк, требуя еды и света, — нам никто не отвечал. Лишь один раз шаги сверху приблизились, люк отмахнулся, охранник полоснул вниз из автомата, и люк тут же захлопнулся. По счастью, никто не был убит… Да, Семён потребовал определить, где мы стоим… Его слушались уже беспрекословно, а как это сделать? И всё же сумели… Я забыл сказать, что в ящике с рыбой лежал большой и крепкий нож, предусмотрительно оставленный там кем-то. Этим ножом мы просверлили небольшое отверстие в ржавой металлической стенке баржи, со спичечную головку всего. Я приник глазом к отверстию, вижу, что Норвегия, — огни во фьорде отражаются. Этого было достаточно. А стояли мы, оказывается, вот здесь, возле Бреннёсунна. — Эстенген показал за окно. — Я не мог этого определить, потому что до войны жил не здесь, а в Тронхейме. Я после войны поселился здесь…
— И как же вы… потом? — спросила Наташа, принимая от молчаливой жены Эстенгена новую чашку кофе взамен прежней, остывшей, но нетронутой.
— Семён… это был бесстрашный человек. Он всем объяснил, что ночью надо потребовать воды у охранников, для чего всем кричать, стучать в железные борта деревянными колодками. Вода у нас в бочке действительно кончилась. «Уж воду-то они должны дать, — сказал он. — А если вздумают опять утихомирить из автомата, переждать стрельбу и опять кричать и стучать. И так без конца. В конце концов они вынуждены будут дать воды. В этот момент важно как-то завладеть люком, ведь охранников всего двое. А там — в воду и к берегу вплавь. А дальше уж кому как повезёт…»
— И что же? — спросил нетерпеливо теперь Дмитрий.
— Так всё и получилось. — Эстенген отхлебнул из своей, тоже остывшей чашки. — Сначала Семён, постучав в люк, вежливо попросил воды. Немцы оставили это без внимания. Он попросил ещё — тот же результат. Тогда мы подняли невообразимый шум, немцы, не открывая люка, ударили из автоматов, мы слышали, как стучат пули о железную палубу. Это они попросили нас замолчать. Мы умолкли. Немцы загремели ведром… Через некоторое время открылся люк, немец, не выпуская автомата, стал подавать сверху ведро с водой. Но Семён, беря будто бы ведро, схватил немца за руку и дёрнул вниз, а сам мгновенно очутился на палубе уже с немецким автоматом. Когда немец падал, он вырвал у него оружие.
— А другой… охранник?! — воскликнула Наташа испуганно.
— О-о! — улыбнулся норвежец. — Вы не знаете своего мужа. Что для него один охранник, если он уже был на свободе и в руках у него оружие. Он его убил.
— Убил…
— Да, я это видел… Я выскочил вторым. У того, у другого немца глаза вылезли из орбит, когда он увидел, что вместо своего товарища на палубе уже пленный. Немец попятился, стреляя в Семёна, который бежал по длинной пустой палубе к рубке и тоже стрелял. Они стреляли друг в друга… И немец упал наконец. «Живо за борт!» — закричал Семён, снова подбегая к люку. Оттуда бесконечной цепочкой появлялись пленные, бежали к борту и прыгали в холодную воду. Берег был совсем близко, но там уже выла сирена и по фьорду шарили прожекторы. Потом от берега понёсся к нашей барже катер с немцами. «Савелий! — крикнул я. — Пора и нам в воду!» Мы с ним прыгнули… Сначала плыли вместе, а потом…
Эстенген торопливо стал глотать свой кофе. На этот раз никто не проявлял нетерпения, в комнатке с белыми обоями стояла тишина.
— Вы представьте картину, — негромко проговорил Эстенген, допив кофе. — Чёрная ночь, на чёрной воде мечутся полосы прожекторов. Между ними с рёвом крутится небольшой катер, и с обоих бортов немцы хлещут из автоматов по плывущим к берегу людям! Многие не доплыли… «Ныряй!» — каждый раз кричал Семён, когда катер приближался к нам. Это было последнее его слово, которое я слышал. В какой-то момент мы потеряли друг друга из виду. И уже навсегда. Навсегда…
Эстенген потом долго глядел на свою пустую чашку.
— Когда я, окоченевший, добрался до берега, меня укрыл в сарае портовый рабочий, отец Ингрид.
Жена Эстенгена, услышав своё имя, что-то сказала по-норвежски и закивала, улыбаясь.
— А Семёна — Гюри Кнютсен, дочка старого рыбака. Кнютсены жили тогда на самой окраине Бреннёсунна, там, в камнях, Гюри и нашла его, увела в свой дом. Он в воде был ранен, оказывается, в голову и плечо. Она жила одна, отца её замучили в концлагере на острове Ульвинген за то, что сын его Харальд был антифашистом и партизаном. Когда Семён немного окреп, Гюри отвела его в горы, к брату. Это всё мне стало известно уже после войны. Но ещё в феврале сорок пятого я узнал, что Семён жив. Здесь, в Бреннёсунне, той зимой был взорван кинотеатр, в котором погибло много немецких фашистов и наших квислинговцев. По городу было расклеено объявление, что сделал это «русский бежавший бандит по имени Савелий», за голову его немцы назначили награду в пятнадцать тысяч марок.
— Погодите! — сказал Андрей. — В этом объявлении был его портрет?
— Нет, портрета не было. Только, помню, приметы немцы указывали — рост средний, глаза серые, волосы светлые.
— Это он, он! — воскликнула Наташа, схватила Анну Михайловну за руку. Но та, всё время молчавшая, как камень, и на этот раз ничего не ответила, лишь качнула головой не то утвердительно, не то отрицательно.
— Этого объявления, или листовки, у вас нет?
— Нет, — сказал Эстенген. — Там было ещё написано, что этот русский Савелий… извините… обросший, как обезьяна. Так было написано… Может быть, у Харальда Кнютсена есть? Гюри умерла после войны, а он жив. Он живёт сейчас в Тронхейме, мы к нему поедем, тут не очень далеко. Он был свидетелем, как погиб «русский Савелий»… или Семён.
* * * *Анна, как только все они сели на теплоход в Ленинграде, умолкла, весь путь до Осло не проронила почти ни слова, часто стояла одна на палубе, кутаясь от ветра в шерстяной платок, смотрела на белёсые балтийские волны, о чём-то бесконечно думала. Сыновья и Наташа старались её не беспокоить, но из виду не упускали.
Почти не разжимала губ она и в Норвегии. Её не поразил ни живописный Осло-фьорд со снующими, как челноки, разноцветными маленькими судёнышками, меж которых, словно расталкивая их, проплывали не торопясь огромными ледяными глыбами многопалубные теплоходы, ни сам Осло — шумный, пёстрый, многолюдный. Равнодушно потом смотрела она, как за окном крохотного вагонного купе на двоих мелькают вывески с нерусскими буквами, белые — металлические — и красные — черепичные — крыши домов и домишек, большие лодки с полосатыми тентами на каких-то озёрах. Лишь когда поезд, вырвавшись из города, врезался в лесной массив, она удивлённо вскрикнула:
— Гляди-ка, Наташа, — берёзки!
Поезд шёл долинами, по сторонам которых полого вздымались плоскогорья — знаменитые норвежские фельды, то совершенно голые, то поросшие всяким разнодеревьем: иногда к самой железной дороге подступали густые и мрачные, как в самой Сибири, еловые и сосновые леса. Но Анну это больше не волновало, она опять была задумчивой и одинокой какой-то.
До самого Бреннёсунна железная дорога не доходила, они высадились в Нам-сусе, небольшом и мрачном городке, сели в прокопчённый и вертлявый на воде теплоходик, на котором и доплыли часа за три до Бреннёсунна. И сказочно красивые в это время года норвежские заливы-фьорды, которым даже за этот короткий отрезок пути не было числа, не произвели на неё никакого впечатления. Мрачно смотрел на эти заливы, на врезающиеся далеко в море высокие горные уступы и Дмитрий. Да и Наташа тоже. Лишь один Андрей весь путь простоял на крохотной палубе с широко открытыми от восторга глазами и перед самым Бреннёсунном сказал: