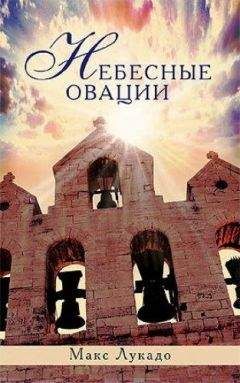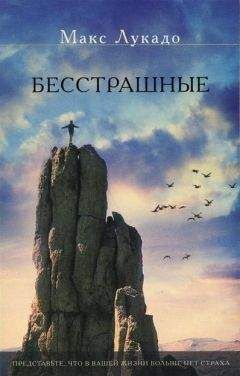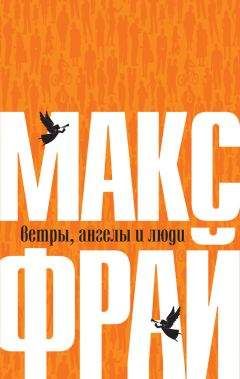А. Андреев - Москва в очерках 40-х годов XIX века
Как же велика цена талантам, скрытым под спудом? Да как раз по карману тому возрасту, который еще сам, словно птичка, живет на свете без печалей и забот и располагает лишь теми деньгами, что пожалуют papa с maman, тятенька с маменькой или добрая бабуся. На один гривенник можно купить чижа с синичкой, а на другой – клетку и корму для них. Канарейки и соловьи ценятся гораздо дороже; только хороших птиц продавцы редко выносят сюда: среди шумного, разнообразного чиликанья не мудрено сбиться с голосу и самому лучшему певуну; где один другому слова выговорить не даст, там красноречие не у места. А если вам угодно крылатую примадонну или певца с бархатным голоском, извольте, представим первый сорт. Только уж не жалейте золотой казны, не думайте удовлетворить свое желание каким-нибудь десятком рублей. Пойдемте к охотнику: не один он здесь, но я поведу вас к первостатейному; а чтоб знали вы, с кем будете иметь дело, расскажу главные черты его жизни.
Ему с лишком шестьдесят лет. Половину их он провел в доме вельможного барина екатерининских времен, страстного охотника, и был у него сперва простым псарем, а потом доезжачим {38} . Живо помнит старик молодые свои годы и увлекательно рассказывает о великолепных охотничьих поездах того времени, когда, бывало:
Пора, пора! Рога трубят,
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах…
По смерти барина он получил отпускную, но зато остался почти без куска хлеба и долго не знал, куда приклонить одинокую голову. Пойдет то к тому, то к другому господину, у которых были псовые охоты, никому не надобно его услуг, свои люди есть. Делать нечего, побрел бывший доезжачий в Москву. В Белокаменной, известное дело, разве только безрукому не найдется работы. Стал Степан Михайлов промышлять стрельбою дичи и хоть с грехом пополам, а кормился кое-как. Да на беду, поехал он раз «позабавиться» с дилетантами охоты, и один из них, у которого рука вернее управляла бильярдным кием, чем ружьем, как-то удосужился всадить ему ползаряда дроби в правое плечо. Долго прохворал бедный егерь, а как выздоровел, пришлось отказаться от своего промысла. Чем же жить? Ремесла он никакого не знал; давай опять кормиться охотой, только другого рода. Прежде он стрелял птиц, теперь начал ловить их, разводить, покупать, продавать. И мало-помалу новое занятие обращается у него в страсть, которая, усиливаясь с каждым годом, становится, наконец, необходимою ему как воздух, не потому только, что доставляет средства для пропитания, но и потому, что в ней единственная отрада его жизни, она одна наполняет собою его существование, одна согревает зачерствелое среди бед житейских сердце и разнообразит быт старого холостяка. Голуби, чижи, синицы, канарейки, соловьи – вот его семейство, его неизменные друзья и приятели. Сколько радости, когда канарейка выведет маленьких птенчиков или стае его голубей удастся заманить редкостного чужака! А когда после долгого молчанья дорого купленный соловей вдруг подаст голос, да еще с такой трелью, что сейчас узнаешь в нем мастера своего дела, – чуть не пляшет от восторга Степан Михайлович. Зато немало хлопот и горя бывает ему со своими любимцами. То типун сядет у подающего большие надежды певца, то затоскует соловей и начнет обмирать, то неизвестно каким путем прокрадется в голубятню злодейка-кошка и похитит пару голубей, да каких! В подобной беде Степан Михайлович утешает себя, курныкая любимую свою песенку: «Чижик, чижик, где ты был, – за горами воду пил…», или заманит к себе Петю со двора и примется рассказывать ему докучную сказку о том, как воробей, мужик в сером кафтане, хотел жениться на синичке, барыне в синем платье.
И слава своего рода выпала на долю страстного охотника. Его знает вся Москва. Сколько раз в газетах было публиковано про него {39} . Живет он на Бутырках, а к нему едут от Серпуховской заставы, чтоб узнать его мнение о какой-нибудь дорогой птице; или зачастую охотники-любители, особенно купцы, приглашают его в трактир, где вывешен соловей, чтоб решить, какие тоны выкрикивает предмет их спора. Степан Михайлович выпьет две-три чашки (хмельного он не употребляет, с тех пор как стал водить голубей, которые не жалуют пьяных), внимательно и не один раз прислушается к раскатам соловья, подумает и решит дело. И весело глядеть, как он, дряхлый, едва передвигающий ноги, воодушевится в подобную минуту, помолодеет десятком лет, – с каким жаром излагает свое мнение, каким юношеским блеском загораются его полупотухшие глаза, какой силой убеждения проникается и крепнет его дребезжащий голос!..
И птиц ни у кого не найдете лучше. Примерно взять махровых голубей. Смотрите-ка сюда: вот пара и вот пара; эта стоит много-много полтора целковых, а за эту, что Степана Михайловича, мало дать и двадцати. А отчего? У одной хохлы торчат как мочалки, а у другой перышко подобрано к перышку, волосок к волоску, словно листья розана; а мохры-то на ногах – на редкость: почти в два вершка длиной. Вот как! Канарейки у Степана Михайловича поют «россыпями, овсянками, разными бубенчиками, колокольчиком, бриллиантовыми и флейтовыми дудками»; соловьи «натурального учения, криковые, кричат дробью простой и рассыпной, на разные манеры: куликом, вороном, кликотом, светлыми и водяными дудками, раскатом, тревогою, стукотней, свистом, кукушечьим перелетом…» [2] .
Разумеется, что не дешево стоит такой мудреный соловей, и за сто целковых разве только по знакомству уступит его нам Степан Михайлович; за канарейку придется заплатить тоже не много меньше…
По этим значительным ценам не следует, однако, заключать, чтобы зашиб себе копейку владелец дорогого товара. Не из корысти торгует он, а по страсти, по охоте, которая, как говорит пословица, пуще неволи. Дорого он продает, но не дешево и сам покупает. Скажите ему, что вот, дескать, «Степан Михайлович, продается соловей, какого доселе и видом было не видать, и слыхом не слыхать! Просто редкость. Да по деньгам ли тебе? Двести целковых – не шутка!» – Что же. Хоть разорится Степан Михайлович, распродаст все до нитки, под жидовские проценты займет, себя заложит – а купит. Знай наших! С другой стороны, торгует он по убеждению, что промысел его укореняет «добрые нравы». Это как? – спросите вы, решительно не понимая, что за связь таится между птицеводством и человеческими добродетелями. «Да так, – простодушно возразит Степан Михайлович, – мало ли к чему пристращается человек? Сказано, что мягок, как воск. Иной чересчур познакомится с чаркой, другой повадится картежничать, у кого амуры разные на уме, кто из кожи лезет, чтоб на фуфу удивить крещеный мир. А что толку-то! Грех да суета одна. И насчет охоты тоже. Охота охоте розь. Не что как псовая, ал и вот рысаки – знатная штука, да не всякому подручно оно. А птичка, то есть средственная, по карману и бедному человеку. И на содержание себе требует она сущие пустяки: горсточка корму да капелька водицы – вот и весь ее паек. И уход за нею небольшой: вымел клетку, песочком посыпал, воткнул зеленую веточку – больше ничего и не надо ей. А зато будет она распевать тебе день и ночь, разгонит хоть какую скуку и кручину, прослужит беспорочно пять иль более лет, и худого ты никогда от нее не увидишь: она не зверь какой, не бесчестный попугай, а божье созданье, и нет у ней в сердечке даже помыслов на зло…»
Не могу знать, согласны ли вы с речью охотника, а уж по лицу вашему вижу, что раздумали покупать у него дорогую пищу. Туго развязывается ваш кошелек; делать нечего, извините, что задержал я вас, – и пойдемте дальше. Наше почтение, Степан Михайлович!
Дальше, рядом с царством птиц, идет область собак и разных зверей, каких именно – я уже имел честь докладывать вам. И здесь расставлены сани, а у саней привязаны собаки; и здесь раздается всеоглушающий гам на разные тоны – начиная от звяканья болонки до басистого рева меделянской собаки; и здесь расхаживает множество охотников, любителей псов, только все они люди специальные: один взял на свою часть борзых с гончими, другой собак для травли, а вот у этого и из-за пазухи, и из карманов, и на руках торчат миниатюрные шпицы да моськи.
Я думаю, нам нечего смотреть, как происходит купля и продажа разношерстных, как оцениваются и рассматриваются их достоинства: сцена Ноздрева со щенком повторяется при этом беспрестанно. Но вот исключение.
Выведена на продажу дворняжка; четвертак – красная цена ей. Ничем не провинилась она перед своим господином, стерегла двор и денно, и нощно, издалека различала своего от чужого и, вероятно, спокойно бы дожила до глубокой старости в одной конуре, если б не судьба. Хозяйка ее овдовела; убогий домишко, единственное наследство после мужа, продала. Приходится нанимать чужой угол: где же поместиться в нем с разным скарбом и хламом, которым был простор лишь в своем доме. И сбывает она с рук и кадочки, и бочонки, и ухваты, продает и семью кур с петухом, и верного сторожа. Маленький сын ее держит на веревочке черношерстную Орелку, которая, как будто предчувствуя разлуку, печально глядит на него и изредка помахивает хвостом. Покупщик скоро нашелся.