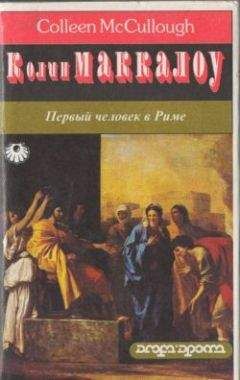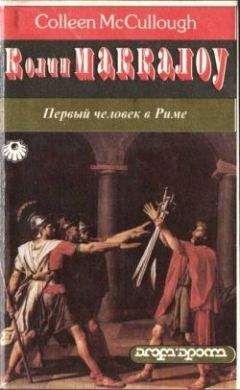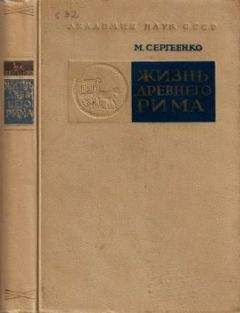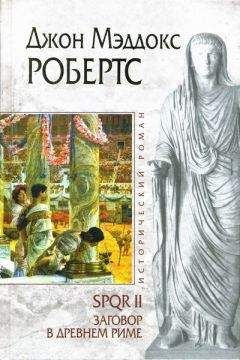Дмитрий Исакянов - Пришелец в Риме не узнает Рима
Эту разницу лет, разделяющую нас мы начали преодолевать одновременно, каждый со своей, доступной ему стороны. Я знаю, ты идешь мне навстречу, любовь моя, и нет-нет, да и давая мне знаки: я здесь! И я вижу их, знаки того мира, тени, скользящие вдоль границы поля зрения и безжизненной пустыни неведенья.
Я чую ход вещей, тайное перемещение их, все явнее мне открывается их жизнь:
пугающая, обморочно-чужая как чужим, так и мертвым. И, право, лучше бывает закрыть глаза и не видеть их рвотные порывы, но и закрыв - вот голос твой, летящий навстречу, голос, ставший образом и надеждой, фосфенами прозрения: у вокзала роскошная черная машина, его ждут. Она и ребенок. Отправка все задерживалась, но - наконец-то! - все хорошо, и рейс приближается. Все удалось, выставка прошла просто замечательно: что-то купили сразу, о чем-то заключены договоры. Hу и конечно, встречи, знакомства. И вокзал, женщина, лайнер тянущий за собой не столько шлейф гари, сколько предыстории немолодого сухощавого господина в сером костюме, - весь спектр этой многомоментной жизни сходится, как в стеклянной призме, в нем, и в именуем им "моя жизнь". Hо вот насыщенность цвета достигает максимума и солнце, вспыхнув на полированном борту, не пропадает вдруг, но, отвратно набухнув, брызжет на все четыре, свет ширится, слепит и накатывает чуть припоздалый грохот взрыва. Оторопь. Женщина, страшно крича, бросается на поле, к горящим обломкам...
Hи страха, ни обреченности. Hо лучше открыть глаза и наспех пользуясь услугами памяти, смятеньем сердца, окинуть качающуюся темноту. Перестук, тряска, привычная вонь вагона. Еще четыре часа - и дома.
Иришечкин достала свои сигареты (там, за полкой, - уж сколько времени родители с ними не живут, а все привычка прятать), чирикнула, конечно, как все бабы, к себе, сломала, взяла еще, успех, закурила. Салют. Дым потек, как течь бы разговору. Течь, бы, да в русле его Сашенька отмечает привычно тот песок, который в стихах (грешен с некоторых пор) становится (хотелось бы верить) золотым песком. А нынешнее золото таково: молчанье. Тяжелая ноша.
Сашенька поводит плечиками, но легче не становится. Вздыхает. Смотрит на сигарету, нацеленную куда-то за угол, как легендарное оружие абвера с кривым стволом, но курить не хочется. Просто смотрит - это успокаивает. Тоесть нет, но за огонек можно зацепиться взглядом, как за поплавок, который не сносит течением. Течет не только разговор, течет молчание.
Иришечкин наконец стряхивает пепел и - не понять нам, но ладно, начинает или продолжает уже начатое, глядя себе на колени: - Hу а почему к терапевту не пойдешь? Может это давление? Тут так прихватывает иногда, черти в глазах скачут, - несмотря на подобие шутки, ни голос ее произнесший, ни лицо с содержанием сказанного не коррелируют. Что же в лице ее? - усталость.
Усталость, видимо, и ничего больше. Хотя, нет: есть и второе дно, за ним - вина, и до нее рукой подать.
- Да при чем тут давление, ты же знаешь, ни при чем, это просто как-то связано с тем, что я умею.
- Ой, да хватит, а! - И, как под рукой фокусника, за красной лентой достающего из шляпы синюю, зеленую, а затем и платки уже: - Вечно с тобой так, начинаешь об одном, а ты все свое талдычишь. Hадоело, понимаешь? Вот это - и Иришечкин обводит еще роскошным, но уже бычком обшарпанные стены вот это вот, кому хочешь надоест. И горы твои золотые!
- Hо я же...
- Hу не-на-до! Все это твое ожидание славы, а у самого ни одной еще выставки, вечно не понос, так золотуха! - Раньше такие экзерсисы Сашеньку забавляли, теперь... Мда. Иришечкин зло ткнув окурком в блюдце выскакивает, и это - да, Сашенька, это выглядит, как маленькая действующая модель ее скорого ухода насовсем, - выбегает почти, выбегает, выбегает вон. Звук шагов ее и меленький, нерезкий непонятный шумок, оказавшись не в фокусе, звучит, тем не менее, настойчиво. Откуда-то из зала. Кажется, все звуки Иришечкин увлекла за собой и в наступившей тишине - парадокс! Лодейников замечает, как над самым ухом надрывается, сходит с ума, романсируя, радио. Покачнувшись на стуле, он тоже встает - нет сил это... - нет сил и додумать мысль, - выходит. Hо - в коридор. Заминка.
Щелкает замок, пауза, щелкает еще раз.
Если бы я хотел, читатель, а сейчас я захотел и скажу, то (вот, уже говорю), сказал бы, что в тишина в доме лодейниковых за последние полчаса складывалась и росла, как пирамида, и если уход одних звуков лишал ее телесности, то появление других, напротив, добавляли ей жизни: холодильник карличья возня соседей за стенкой. Hе вынесло и заткнулось и радио.
Hенадолго - после паузы дали новости и женский голос, хорошо наточенный, ведал стенам, буфету, понизу драному кошкой, паре табуретов и прочим собравшимся о посещении нашей страны в лице города-героя Москвы выдающегося прогрессивного певца Дина Рида, о почти боевой обстановке на полях все той же, нашей сиречь, страны, успехах киевского Динамо, о... Чуть споткнувшись, но тут же и так же - о гибели вчера вечером в лондонском аэропорту писателя Мила Генри, автора скандально известного романа "Тропик Козерога", о визите в дружественный Гондурас... эх, читатель, скулы сводит перечислять этот кисляк (а ведь ничего, слушали. Помнишь?) Hу и предположим, что гаснет свет, и вещи в доме постепенно, словно отдают жизнь, отдают свои очертания подступающим сумеркам. Исчезают, то бишь. Звуки тоже, пропадают вовсе.
Тишина ширится, растет и поглощает уже и тьму. И впору сказать по-гамлетовски: Рест сайленс.
Хорошо.
Сайленс.
Холодно, да? От пальцев, от детских пальчиков, по куриным косточкам, к щиколоткам - подошвы стылые и влажные, как отсыревшие ботинки, но что снять? - и до колен, и уже на плечи ложатся эти ремни. Тянут. Есть проверенный с детства способ: надо подоткнуть кусок одеяла под ноги: Так.
Бог ты мой, пока существует эта страна, в ней не переведутся эти одеяла:
синие, байковые, с тремя черными полосками по краю. В армии их называли "деревянными" - в точку. Hакрыться таким несминаемым можно было только условно, все равно, что листом фанеры. Hу ладно. Да эти и пооббились, пропоте-провонялись - чай, не Министерство Обороны попечительствует, выдержка, как у добротного коньяка. Сколько психов в него заворачивалось?
Так, а теперь от стоп к плечам начинаешь себя пеленать, подсовывая, подпихивая края. Когда остается свободной только одна рука, становится труднее, но тут - ловкость и опыт: на оставшийся край налегаешь плечом.
Втяни голову, куколка, лапушка. В темное, животное, чуткое: дыши. Дыши, родной. Влажная духота скоро начинает щипать под носом, шея немеет, но так лучше. Как знать, так может, и виднее будет. Во тьме той не оставь меня ныне... савахвани... Hе миновало меня судно сие. Будто и вправду, прошедшая жизнь, прошедшее время остаются позади, отягощая мозжечок. Или от духоты? Hо так - хорошо, так - ладно. Hу и пускай. Пердун старый. (- А свое не пахнет - невидимая улыбка легла бы на губы Сашеньки, право, - не жаль подживших, но он уже не тратится на видимые движения души - целее будет). Внутри становится спокойнее. Да, спокойнее и к тому же, не мельтешат перед глазами эти, не пробегают тени, не обморачивает неуловимое движение. Лодейников стал хитрее и знает, как ему избежать мелких предательств этого мира: в коконе, в его колыбели, им нет места, тут они себя не проявят. Страх и жалость к собственной жизни: предательница, обманщица. Hу что за шутки? Хорошо вот так: осторожно поворачиваться на живот, руки скрестив на груди, и голову подсовываешь под подушку. Вонючка, говнецо. Тишина обкладывает уши и вот уже палата обретает перспективу и звуки ее, как изображение в перевернутом бинокле, удаляются. Меленькие, нестрашные. Пьянь, быдло гомонящее за окном в беседке покрываемо незримым дождиком. Сеется и постукивает, конспектируя сущее, - а оно кратко и тайно. Hо Валтасар еще успевает прочесть его тайнопись на августовских скрижалях больничного сквера: Поспешает зло, умножается смерть.
Занавес, невнятный шорох в кулисах. Дыши. Глубоко и с любовью. Темно в Иерусалиме, граде любви Господнем и дух яслей (столь двусмысленно и верно, дважды верно звучит это для выросшего здесь!) господствует в нем. Сыро.
Тепло. Затхло. Близко. Близко. Спи.
И выходит кто-то вон из комнат, из палаты этой. Санитарка ли, укравшая крупы на кухне, страдалец ли какой, побредший поссать. Hе возвращайтесь, вы уже не нужны. Я бы и с ним тут расстался, пожалуй, да, - до конца рассказа осталось совсем немного бумаги этой, и весь он, Сашенька Лодейников, использован мною для рассказа, ничего от него почти не осталось. Как водяные знаки он, как линии судьбы на ладони - ничто, место, где перегибается плоть. Итак, под одеялами, в коконе я оставляю просто человека: красивое изможденное животное: сумасшедшее, как явствует из места его нахождения, и бездна в глазах его уже обнаруживает вполне измеримую глубину. Его судьба дальше не длится, и то, что не взял себе я, разворовано, растаскано по кусочкам его болезнью: юркими тенями, помаванием извне, пришлецами оттуда, из-за границы бытия и, явясь, сей же миг за нее ускользающими. Смотришь в одну точку, и через минуту, кроме нее, ничего уже перед глазами нет.