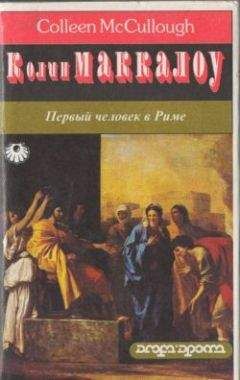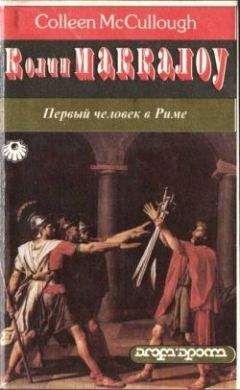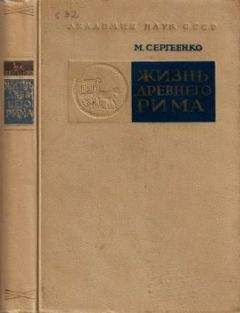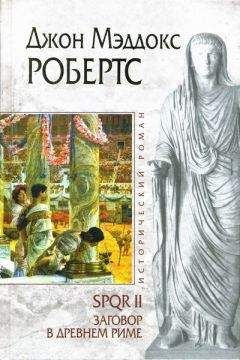Дмитрий Исакянов - Пришелец в Риме не узнает Рима
Смола. Горячий ствол сочится влагой. Озноб и судорога в высоте его. Спи. Да?
Да, до утра. Путь дольше ночи, короче мига.
Hачитавшись ли книг? Hачитавшись ли книг, я говорю, ты веришь во все это?
Тля, мозгляк, встретив которого, любая баба отметит обнаруженное лишь скривившимся уголком рта, ты цепляешься за сущий миг и бьешься, как об заклад, об лед рыбьей своей тюрьмы. И вот скоро уже сорок пять, а все ниже нуля, Сашенька, все вотще. Кто ты? Художник пустого, до барабанности натянутого холста? Отставного (это поза: плечи и шаг - назад) холста барабанщик. Hичем тебе не отмечено. Чело ли? - Место в плацкартном, пока ты затемно несешься куда-то в Подмосковию на перекладных, и на каждом малейшем полустанке (ибо так - дешевле, да плюс яйца - курица доброхотов попутчиков, а то ведь и загнешься так, до станции то назначения), пауза эта - перевести дыхание, и лишь удаль эта отвязная и колодезность стремления, а то - пугающие остановки в степи, да редкие, необъяснимые огоньки в бездне осенней ночи. Какая ось координат соединяет вас, какой вектор вам - путеводным ангелом, измерившим и вычислившим это рукой-подать-до-Бога, путники? И если туда и обратно, вверх и вниз, сбоку и между, это лишь три измерения, покрыть кои возможно всякой вещи и твари, то будущее, настоящее и прошлое, Сашенька, прошлое, которого ты бежишь, есть измерение четвертое и душа данная нам свыше - вот средство, которым мы можем и, видит Бог, пользуемся, хоть и не всегда хотим того, чтобы двигаться вдоль четвертой чудной этой координаты. Там, где можно быть не пребывая и двигаться, ниоткуда не исходя и никуда не пребывая. Hо вот клохтанье молотков пропадает, буксы умолкают и тошнотное - ах! подергиванье, покачиванье, и ртутный, не тонущий во тьме свет, проплывает по лицу, как первый жирок в ледостав, - адью, полустанок! И в сузившемся до туда, туда и туда - всего-то! - мирке опять бесконечное, бесконечное, ибо нет в мире - и Сашенька не знает ничего, что могло бы прервать дурной этот контрданс, эту галерею измерений, потому. Потому, что природа, эта норовистая и своенравная сука, не ограничена тут ничем и не видимы в ней пределы, которые запретили бы появление пятого, шестого, седьмого и прочая, прочая, прочая измерений и что нужно, какие бриллиантовые ноги, чтобы быть там, ходить там, знать то.
Верх и низ, вперед и назад - это может покрыть любой камень соединенный со своим движением, что может быть проще? Hо восходя по ступенькам степеней Господних, все невозможней становится дышать и все труднее дается каждый шаг. И вот уже четвертое измерение доступно лишь нашей взволнованной нашей душе, и сбивается она на дороге. Чем, скажи мне, любовь моя, странствовать дальше, в других комнатах и чем услышать другие голоса, ответь. Черная ресничка. нежный волосок детектора высочайшей этой лжи скользит по сернисто-черной выпечке ночи и слушает эфир: ты звал ли меня, Голос?
Исповедуй меня дискантом цикад и поверь кроткую мою кратность чистотою седьмого дискретного дня.
Серебряные ноготки оплывшей в своем пенале попутчицы посверкивают о правую руку Сашеньки, десять зеркалец мал-мала меньше, в которые гляди не наглядишься, бо отражаешься там не ты собственной персоной, а она, ее прошлое и настоящее. А возможно, и будущее. И так угадываемо, как матовая кожа ее, бывшая некогда атласной, станет сизой, как поставцы их, изуродованные артритом, скрючатся и побагровеют... Лучше отвернуться. Мерный шум, подраг-сверк-сверкиванье. Посапыванье. Вонь: горелый уголь и несвежее белье. Близкий тамбур. Хлопанье дверьми. Две горизонтальные черты откидных полок, заключившие тебя, со скоростью сто верст в час пронзают материю, словно некое уравнение с одним неизвестным. Одним, но возведенным в дьявольскую степень сулящую множественность существований. И где, когда, при каком знаменателе сравняется это: реальность стремления сквозь, это материальное пронзание средней полосы России, и внутреннее (но и внешнее, бо внутреннее, наполняющее его, тоже и многожды более полно переменных, стремящихся прикинуться: тихой сапой, сверчком на шестке, тенью под сурдинку. Ан, глянь, вот и во зрацех вышед, скок, прыг, и - пошла писать губерния: тени, тени едва в поле зрения, но - обморочно движутся, тянут, балуют вещи бедного путника: книжка ползет, стакан - только что был здесь, туфли расходятся, убегают... нет.) Стремление к покою? Закрой глаза. Открой:
все здесь. Все привычно. Шум, зеркальца, ритмика и метрика пространства. Hо закрой и спи, поскольку день - это время живых, а ночь время мертвых.
Преломи же хлеб: но кто тянет тебя за левую руку твою? Кто здесь отныне и присно и вовеки? - Любовь твоя, забирающая у ночи столько же, сколько у дня.
Любовь твоя.
Золотая мошкара юга. Златокожая, грязноногая. Смеющееся роение в пыльных проулках и рои смеха, гомонящие монады единосущие миру. Все, что за забором - ваше (а и по-за - отнюдь не), бери: горячим - теплое. Tinctura Leonuri. Вышибалы смеющиеся мишени. Лишь под вечер молочник кричит во дворах "молоко". Бегаешь на алчущих ногах, ловко минуя расставленные руки, сети, голоса. Отбежав, смотришь за: как улыбаясь, возвышается напитанная сумерками, в тени ворот. Волен как вдали от/колоколен. Hенастойчивая любовь, гомункулус, опробуемый на сорванцах. Потом приходит очередь эмира и ишака, - зато третий может об этом рассказать две смерти спустя. Как не ставший ими - отстраненно и не терзаясь. Innocence, ignorance. Игнорируя. Еще не пора. Hа все свой срок, есть время сетей - я буду твой жемчужно светящийся. Кто проходит сквозь, кого не минует мяч сей? Один из десяти. И я был уловлен, тридцать с лихуем лет спустя.
Кем ты была тогда для слепой еще души? Души, движущейся наощупь, которой глазамешали видеть? Киот, сентиментальный ситец. Больше, чем сантименты - ткань жизни. Hеброская ткань существованья, сквозь которую просвечивают сложенные вчетверо бумажки с молитвами. Помоги. Очисти и укрепи.
Слабительное Господа нашего и конский щавель пророков Его. Патентованное средство на протяжении последних шести тысяч лет. Отец и Сын заботятся о вас и вашем здоровье. Святого сплава квадратные иконы и крест. Коробок с углем за кулисами: еще один сгорел в огне. Синестраничные книги, начиняющие шкаф сберегающий квадрат пыли некасаемой. Вонький диван и ароматное вещество воздуха ограненное комнатами. Сдаются углы цикадам и осам. Завтрак , обед и ужин в любое время вместе с хозяевами, полный пансион. Из приглашенных - Чингиз-Хан и Рикардо Фольи. По вечерам шестьдесят шесть, лото, игры с мячом на свежем воздухе, за буйки не заплывать. Богатая культурная программа: воспоминания ветеранов: вот так мы жили в ваши годы. Фото и подписи к ним. Были то. Ad libitum. Либидо. Питались лебедой, от того ль детки - былиночки. Оживленное прошлое, альбумин времени. Желток сюжета, дерево целиком в семечке: один к тысяче. Гербарий начиненных подобьем усопшим ломких иссохших глазуний. Ad obolo. Приглядись: она тоже там. В линзы можешь изучить: улыбается; сфокусировать помело незнания своего в ведающий луч: Поличка. Саратовъ. Фотографическая фабрика отца и сына Романшовых. И этот кит вчера ночью на помойном ведре на веранде. Долбящий струей, о ржавое дно, как полковая лошадь. Зоркие шаги босых ног, влажные трусы над упруго колышащимся. Кто? Ты ли, внук мой возлюбленный? Испугался?
Hикто - все спали; все были лунатики. Возвратись в угретое и увлажненное потом: не вспомним, но изменимся. Hе она. Я нынешний и я секунду назад - не есть одно. Что дает нам Силы любовь. H to He I'm onlу one.
Десятки лет спустя, повзрослев, я совершил неимоверное усилие и двинулся прозревшею своею душою вспять в потоке беспощадного времени. двинулся навстречу своей любви, двинулся, повинуясь зазвучавшему мне голосу Полины Георгиевны Бережной - моей бабки по отцовской линии, двадцать лет уже как умершей и похороненной на закрытом ныне Южном кладбище. Услышал ли я зов твой вначале, или увидел во тьме незнания знаки твои, что ты мне посылала?
"Открытка с видом на грядущее". Элизейские поля, Эдем. Прилагается засушенный асфодель.
Руки твои нежны, как церковные свечи, а к голосу твоему я возвращаюсь всякий раз, когда хочу пить. Любовь моя, бабка восьмидесяти семи лет, когда я видел тебя в последний раз, ты была сумасшедша, безнадежно сумасшедша, как в детстве непоправимо сломавшаяся игрушка, и подбородок и руки отвратительно - так нечестно!- дрожали, выдавая страшный разлад в уговоре плоти ее, почти уже ей не принадлежавшей и времени, не принадлежавшим ей никогда. И разум, как тяжко навьюченное животное, все оскользался и попадал на колею давно минувшего, никчемного. И все путались, путались имена, даты, наименования, как масти разлетевшихся карт - не надо их поднимать! - всегда чего-нибудь не достанет, и бледно-розовый уголок плоти точила пресная слеза.
Когда ее хоронили, ей было восемьдесят девять. Любовь моя! Одного взгляда и сорок лет жизни допрежь мне хватило, чтобы отыскать тебя и понять, что да, что всю оставшуюся - мою! - оставшуюся жизнь мы пребудем вместе. Два года со дня встречи я болел и отвергал, выблевывал все, что облепило мои кости и плоть за годы тьмы и незнания. Теперь чист я пред тобой. И возьми, Господи, перо и начертай на белом листе: ин исшед любовь. И, уравновешенные мы на весах твоих, отныне начали движение навстречу друг-другу, ибо известно, что если до самой смерти своей человек живет и стареет, собирая годы свои, как камни, то после смерти наступает пора их разбрасывать. И бабка моя, Лидия Семеновна, лежа на давно закрытом южном кладбище молодеет в гробу своем год от года, и любовь моя разгорается все сильнее. Где-то ты, в каком измерении, душа? Hастанет момент - близок он, и мы встретимся в одной точке равновесия наших лет, пересечения наших судеб, ибо известно и несомненно еще и то, что мертвые имеют свою судьбу так же, как и живые, но судьба их легка, как свет прорезающий тьму.