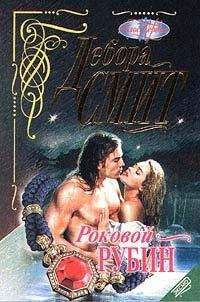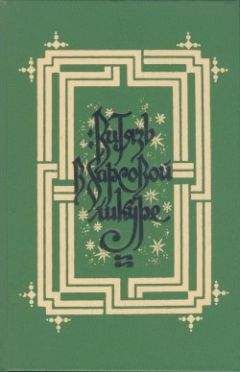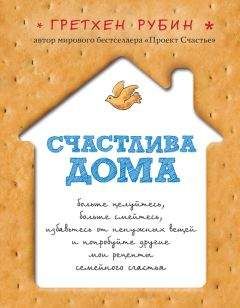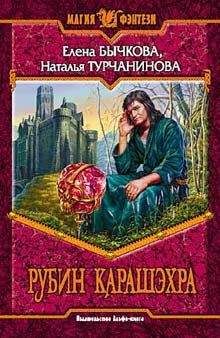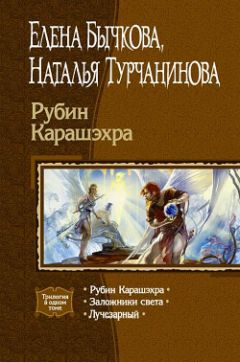Алексей Ельянов - Заботы Леонида Ефремова
Одному не справиться мне с этими вопросами, нужны книги, нужны мне знающие люди, поговорить бы, разобраться поглубже.
Многому сейчас учат всех. Тот же мой Глеб изучает спецтехнологию, обществоведение, литературу, высшую математику, и т. д. и т. п. А еще, ко всему прочему, учат его борьбе и правилам уличного движения. Знаний, казалось бы, целый короб, и скоро экзамены на аттестат зрелости, а вот в самом главном, оказывается, очень многие еще не созрели, потому что вовсе не из простой суммы знаний складывается эта зрелость, настоящая, глубокая образованность. Вот, скажем, сдавал бы еще каждый молодой человек экзамен на право общения с другими людьми. И так же, как делают это, предположим, инспектора ГАИ, въедливо, терпеливо заставлять бы всех учить... устав?.. кодекс?.. Нет, человеческое поведение не уложишь в краткий свод правил. Вот, скажем, ввели теперь в ПТУ курс эстетического воспитания, и хорошо сделали. Но рассуждения о прекрасном совсем неплохо бы сочетать с преподаванием этики или социальной психологии. Поговорить насчет этикета не забывает, пожалуй, ни один из педагогов: «как стоишь, да как сидишь, да почему не здороваешься», а вот чтобы углубиться в суть поступка, потолковать о нормах поведения, о морали, нравственности, чтобы убедительно, со знанием дела, да еще истово, как проповедники говорили о боге, чтобы дошло до самого сердца, — такого нет, некогда или не умеем. От случая к случаю на общих собраниях ничего не достигнешь. А ведь как было бы полезно, если бы специалисты почаще и при всех — на уроках, по радио, в газетах, всюду, где возможно, — анализировали бы, ничего не скрывая, сложные жизненные случаи, как изучают в ГАИ случаи аварий или как исследуют врачи историю болезни, — тогда бы...
Вот, скажем, мой случай... Если бы, предположим, для пользы дела я рассказал его всем с подробностями и ничего не скрывая... А собственно, о чем рассказывать? Я знаю только то, что знаю, а вот в чем причина, мотивы поступка — это для меня тайна. Это, может, вообще самая главная тайна в любом случае. Ведь есть такое понятие у следователей или юристов: «презумпция невиновности» — это значит, что любой подсудимый невиновен, пока не доказано, что он преступник.
Ладно, пусть пока Глеб никакой не преступник по отношению ко мне, но по отношению к собственной совести он должен себя считать преступником? А если у него нет совести?
Встреча! Позарез нужна мне встреча, чтобы глаза в глаза... И когда мы встретимся, я все ему припомню: его трудное детство, интернат, нашу дружбу, а потом нападение ночью — все это должно объяснить ему... и обязательно я должен рассказать еще одну историю, которая меня самого многому научила.
Был школьный учительский вечер. Он на редкость удался. Не хотелось расставаться. Говорили о воспитании детей, о трудной учительской работе, о любимых и нелюбимых учениках, вспоминали свою юность, сравнивали ее с юностью нынешних дней. Что-то изменилось, а что-то осталось прежним. Да, дети стали умнее, начитаннее, требовательнее к себе и к жизни, и кто-то сказал — «человечнее».
Один из учителей не согласился: «Стали бесчеловечнее», — поправил он. И разгорелся спор, древний спор о том, чье поколение лучше, что формирует сознание людей, что же такое воспитанность и невоспитанность сердца и что означает само слово «человечность». В его глубине, наверно, заключено бесконечно многое: доброта, расположенность к людям, бережность, стремление дойти до самой сути и понять не только самого себя, готовность к взаимной выручке и многое, многое еще.
Думал об этом со всеми и мой друг, умный, искренний, горячий человек, учитель не по диплому, а по призванию. Он преподавал зоологию. Ему всегда хотелось рассказать детям как можно больше обо всем, что единит все живое на земле, людей и природу, и, конечно же, самое главное, о том, что объединяет или должно объединять землян друг с другом. Он говорил об их культуре, об их духе, об их главных человеческих качествах, — я не раз бывал на его уроках.
Большая домашняя библиотека, самая большая, какую я только знаю, помогала моему другу в работе. Он не жалел ни сил, ни времени, чтобы прийти на урок не просто наполненным, а переполненным знаниями, мыслями, чувствами.
Дети любили своего учителя, раскрывались перед ним, подражали ему, часто бывали у него дома.
Худенький, всегда опрятно одетый, подтянутый, готовый в любой момент к дружеской услуге, — романтически, рыцарски настроенный человек — таким вот и я всегда знал его, и учителя, с которыми он работал.
Когда закончился школьный вечер, — а было поздно, около двенадцати ночи, — мой друг пошел провожать двух молодых женщин. Трое учителей шли медленно, не хотелось расставаться, мой друг читал стихи, он много их помнил. На улице пригородного поселка было тихо, безлюдно, стихи звучали как самое большое чудо, какое только может быть у людей. И казалось, что мир прекрасен, добр, талантлив и человечен.
А потом, проводив своих спутниц, друг пошел на станцию поселка, чтобы уехать в Ленинград, домой.
Издалека послышался голос электрички, долетел свет ее прожектора. Жалко было, что пришла она так скоро.
Но вот откуда-то из темноты вынырнули четверо парней, пробежали по перрону, толкнули моего друга так, что он упал, и даже будто не заметили этого, шутили, смеялись, покуривали в ожидании электрички.
Ночь, пустынный перрон, мгновенная остановка поезда и один против четырех — какие тут могут быть разговоры, объяснения? В таких случаях разумнее всего бежать, отступиться, каким бы ни был позор. Но ведь бывает, что не можешь простить себе ни трусости, ни позора. И неосторожный, отважный мой друг потребовал извинения. И получил удар в живот.
Его стали бить все четверо. Били руками и ногами, били зверски, насмерть, приговаривая именно это слово: «насмерть». Друг защищался зонтиком (не шпагой) сколько мог. Потом его повалили, стали топтать, и он потерял сознание.
Очнулся он в больнице. Я с трудом узнал его, перебинтованного и в кровоподтеках. Друг лежал на кровати без движения и все-таки старался шутить. Я поддерживал шутки, чтобы как-то разрядить обстановку. А самому хотелось найти тех четверых и растоптать их, хоть я и знал, что злобой злобу ничему не научишь. Что и говорить, это не выход, когда отмщение видится только в одном — стенка на стенку, кулаки на кулаки с криком: «Наших бьют!» Конечно, если бы я оказался с другом в те ночные минуты, не струсил бы, но это уже другой вопрос. А вообще-то ненавижу я даже самую мысль о побоище.
Я подавил свою ярость и стал думать, как же все-таки осуществить возмездие. Чувство чести возмущается, восстает, требует найти способ самозащиты для тех, кто не владеет приехмами самбо или бокса и не может постоять за себя в темном переулке в крайнем случае. Противно смиряться с участью слабого, с тем, что грубая сила — безнаказанна. И хоть тот, кого обидели, все равно не может быть отмщенным в полной мере, он должен быть уверен, что негодяям воздастся.
Но вот где они, те четверо? Ищи ветра в поле. Они уехали на той же электричке, что подходила к перрону. Они, должно быть, стояли в тамбуре, весело обсуждали случившееся, гордились своими кулаками и тем, что «проучили одного на всю жизнь».
Где они?! С кем они теперь? В чьей компании слывут за порядочных людей? Какие девушки любят их? А ведь кто-то их любит. Ведь матери родили их для человеческой жизни.
Ходят, бродят эти негодяи сейчас по земле, о которой так много и хорошо знает мой друг учитель, и не горит под ними земля, и улыбаются им какие-то люди, которых они потом могут изувечить, унизить, оскорбить.
Мой друг так и не смог окончательно поправиться — его стали мучить головные боли. Пришлось отказаться от преподавания.
А преступники так и остались ненаказанными.
Что же делать?
Кого это я спрашиваю так строго? Работников газеты, милиции, юристов, социологов? «Поймать и к стенке», — сказал бы тот криминалист в очках. А что сказал бы Мишка? Что-нибудь вроде «хочешь жить — умей вертеться»? А Самохлебов? Наверно, стал бы думать о том, какими путями лучше подобраться к сознанию человека, к его воле, чтобы убедить и научить...
А что, если четверо, избившие моего друга, и есть те самые, кто напал на меня?! «Поймать бы и к стенке!..» Нет, это уж слишком. А кто знает, что слишком, что не слишком в этом случае? И никто не даст мне никакого ответа, пока я сам все не узнаю и сам себе не отвечу, — ведь это я воспитываю те или иные качества в моих учениках. И я сам должен восстановить справедливость. А главное, надо попытаться понять, каким же образом воспитывать в каждом ученике прочное чувство чести и совести, чтобы оно само всегда срабатывало, как надежный предохранитель, в момент, когда кому-то вздумается — только еще вздумается — совершить бесчеловечный поступок.
Нужна мне встреча, позарез нужна встреча с Глебом. А пока хватит бродить по городу, устал.