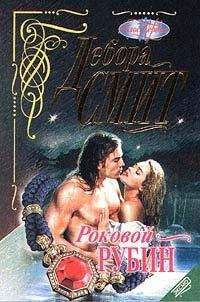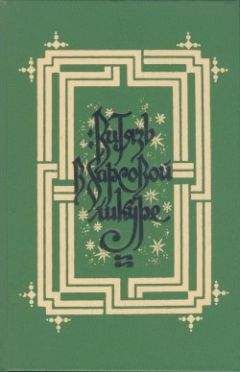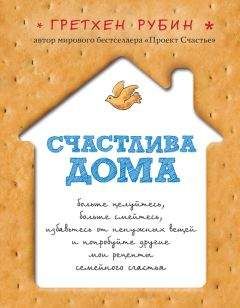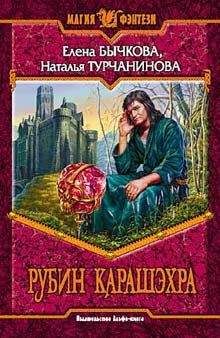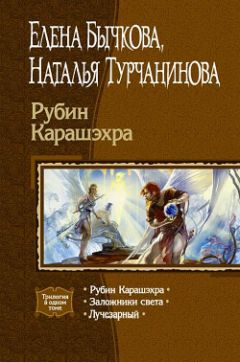Алексей Ельянов - Заботы Леонида Ефремова
Я перешел через Мойку, свернул налево, решил, что лучше всего идти к Зимней канавке, потом к Дворцовой площади и дальше куда-нибудь к Исаакию или на Невский, — хватит пока искать Глеба, похожу тут в покое и красоте.
Зашагал я по старым, потрескавшимся каменным плитам, время от времени касался рукой гладкой и прохладной чугунной ограды набережной. Не было тут ни прохожих, ни машин — тишина, покой и настоящий старый Петербург: слева за недвижной Мойкой белые колонны бывших царских конюшен, справа окна над самой мостовой, низкие подворотни, балкончики во втором этаже, дом прижимается к дому, и в каждом основательная добротность, даже тяжеловесность, и необъяснимая, близкая сердцу грусть, и таинственность — все дышит здесь стариной, ощущается время, которое прошло и все-таки живо: тех людей уже нет, и все же — вот они, я, кажется, слышу их голоса, вижу тени за стеклами, а вон их следы на стершихся от подошв камнях, а вот и цокот лошадиных подков — сразу за булочной от набережной кони сворачивают к мосту — это увозят Александра Сергеевича.
Часто теперь поют песенку про Д’Артаньянов: «Есть Д’Артаньяны, есть...» Они, конечно, рождаются снова и снова. Не шпагой — приемами бокса или самбо отстаивают свою и чужую честь или как придется — вроде моего случая под мостом.
Честь! Старинное слово, и вечно молодое, горячее чувство. Как и чем отстаивать ее, а лучше — как оберегать в себе и в любом другом человеке?
В стене труба, а из трубы бьет, расплескиваясь, вода, а рядом лужа, а в луже кораблик, верткое суденышко из плотной бумаги — страница школьной тетрадки, — как и прежде бывало, опять отправился в кругосветное плавание, в кругосветку через всю огромную лужу-лужищу. Какое там, попробуй скажи мальчишкам, что это лужа, — рассердятся или улыбнутся криво: это море, это океан, и океанское судно пошло к берегам Африки, или Австралии, или Америки, или по другим каким-нибудь путям, где бывали капитан Кук, или Колумб, или...
Но разве может понять это взрослый дяденька? Это я, значит, взрослый дяденька? Что ж, конечно, я взрослый дяденька, пришлось согласиться мне с этой мыслью. И все-таки подошел к луже и не постеснялся попросить у мальчишек листок бумаги из школьной тетрадки, чтобы смастерить новое судно — кораблик своего детства.
И сразу же почувствовал себя самым настоящим мальчишкой, когда, присев на корточки, начал сооружать суденышко, а пареньки смотрели на мои руки, оказывается давно отвыкшие сгибать бумагу так, чтобы получился устойчивый, широкобрюхий однотрубник — популярнейшая модель моих детских лет.
— Дяденька, это нужно делать не так, — стали учить мальчишки. — Вы не туда загибаете этот край, кораблик утонет, дайте покажу.
— Ладно уж, я сам как-нибудь, я сейчас, потерпите, — стал оправдываться я, сгибая, сминая плотный лист бумаги.
Кособоконький получился кораблик. Да что делать, плыви. Кособокость мальчишки простят, а вот если начну переделывать — засмеют.
И поплыл кораблик: «Сам свой боцман, сам свой лоцман, матрос, капитан...» Прилетел ветер, подул на него, и все дальше, дальше стал отходить он от берега, к флотилии других его кособоких собратьев, и тесно стало в луже, в море-океане. Плыви, плыви, кораблик, плывите все, вон впереди вам Босфор и Дарданеллы. Сейчас самое время — в путь. Весна. Детство природы. Кажется, всюду, на всем земном шаре — солнце и тепло. Весна!
Мальчишки шмыгают носами, смотрят то на меня, то на лужу. Один в курточке из синтетического материала, одежка замусолена, дырки на рукавах и под карманами; другой в зеленом пальто навырост; третий в красной вязаной шапочке, конопатый, самый веселый и опрятный из всех.
Мальчишки занялись игрой, своим самым главным делом, а я пошел дальше к своему самому главному... делу? Заботам? Даже не назовешь определенно то, чем я сейчас занят. Как говорится, дела не делаю и от дела не бегаю, хожу вот и маюсь.
— До свиданья, мальчишки. Счастливого плаванья!
Что запомнится им на будущее из этих времен, что станет не шуткой, не баловством — характером, натурой, судьбой? С чего же все начинается? Это, быть может, знает он — врач, с которым я непременно должен встретиться еще не раз.
Глава третья
Я обязательно приведу тебя, Глеб, к Владимиру Самохлебову. Пусть вглядится в твои глаза, поговорит, поищет в тебе тайны души — пятна, островки, маяки твоей совести, пусть он поглубже заберется в твое прошлое и вытащит на свет божий лучшего и худшего Бородулина, чтобы хоть тебе самому стало яснее, кто же ты есть на самом-то деле. А вдруг это поможет избежать новых бед: срывов, обвалов совести или принципов, которым ты изменил или которые тебя подвели. Казнишься ли ты за измену себе? Казнишься, я чувствую твою боль, и это примиряет меня с тобой, тут мы заодно. Мне кажется, нам неспроста досталось на двоих одно испытание. Что станет с нами? К чему придем? Не думать бы, отказаться от всего: прошло — и ладно, и сразу легче станет, но я не могу, это не в моей власти, да и не в твоей, Глеб, насколько я тебя знаю. Оба мы сейчас бродим, как среди руин, да и себя разбираем на части, придирчиво разглядываем детали, — многое нужно почистить, промыть, переделать, чтобы все сошлось при сборке как надо. Что ты делаешь обычно, каким образом ищешь в себе «горячо», «холодно», — пересматриваешь настоящее, заглядываешь в будущее или возвращаешься в прошлое? Как, каким образом оно живет в тебе?
Я помню все, что было у меня в прошлом, часто возвращаюсь в него. Порой я нахожусь в моей сегодняшней жизни только, я бы сказал, телом своим, а все, что я осознаю, чем мучаюсь или радуюсь, — память прошлого. «К чему это мне? — спрашиваю я себя иногда. — Достаточно и того, что есть». И того, что было. Памяти дано помнить, а сердцу — горевать и радоваться, а мозгу — думать о прошлом. И я думаю, что, может быть, единственное, что у меня есть по-настоящему мое, — это прошлое. Кем я оказался бы, забудь все, что пережито? Кем я оказался бы в каждом моем новом шаге, не будь всего, что позади? Чем подробнее я помню свое прошлое, чем больше думаю о нем, тем, может быть, полнее, значительнее и человечнее мое настоящее. И никогда не сможет забыться давно прошедшее — детдом и то, как мы, мальчишки и девчонки, съехавшиеся отовсюду в одно место, пережидали, переживали войну. Теперь-то я понимаю: война не только убивала людей, рушила дома, жизнь, — она еще разрушала особую связь детей и родителей именно в ту пору, когда ребенок начинает говорить, думать, чувствовать, запоминать, и нам, детдомовцам, порой трудно было понять, что хорошо, а что плохо, и нередко детская, юношеская наша слепота или жестокость устанавливала свои законы... Трудно было выбираться из этих испытаний — тогда и потом.
Вот я иду сейчас и свободно помахиваю руками: левой, правой. И пока я в рубашке, в пиджаке, мне нечего стыдиться, никто ничего не знает, не видит, но мне-то известно, что на правой моей руке, как клеймо, отпечаталось сердце, пронзенное кинжалом и стрелой.
Сколько раз я хотел его выжечь огнем. Было страшно. Сколько раз хотел вытравить кислотой — не смог. Да и что вытравлять? Разве дело в надписи? Чем выжжешь и вытравишь то, что было на самом деле и будет помниться до смерти? «За измену!» Что я имел в виду? Или что хотели этим сказать те, кто выкалывал мне эту надпись? Не изменяй любимой своей, а иначе настигнет месть — кинжал или стрела в сердце? Или это ей, изменившей мне, должен был я так отомстить? До чего же это наивно, по-детски или невероятно жестоко, как в каком-нибудь первобытном племени или в неправдоподобно буйных страстях, знакомых мне только из книг. А может быть, я должен понимать эту надпись так: не изменяй самым заветным своим принципам, а иначе тебя неизбежно настигнет строгая кара?
Да что я понимал тогда? Мне, наверно, хотелось просто-напросто быть похожим на товарищей, не отстать от них ни в чем.
С утра до вечера бродили мы компанией по пыльным улицам небольшого шахтерского городка в Кузбассе. Высоченные черные терриконы, горы пустой породы, как пирамиды, возвышались над домами, они манили своими крутыми боками и остроконечными вершинами, но игры мы устраивали не возле шахт, а во дворах, подальше от взрослых, чтобы никто не заметил, как мы играем в «орлянку», или в «секу», или еще какую-нибудь «выгодную» игру. Всем хотелось разбогатеть разом. Стать такими богачами, чтобы можно было скупить все, что продается в магазинах съестного. Голод нас мучил всегда — и днем, и даже ночью. С едой было у всех плохо после войны. В поисках удачи, или богатства, или хоть какой-нибудь еды мы, устав от наших однообразных копеечных игр, бродили туда-сюда: к пекарне, чтобы надышаться запахом хлеба, к Дворцу культуры, чтобы проскользнуть незаметно на очередной сеанс, или шли к магазину в надежде раздобыть «на зубок». Мы метались, как стайка воробьев, мы знали и не знали, куда незачем идти. Любое предложение кого-нибудь из компании принималось быстро и охотно: что бы ни делать, лишь бы делать, куда бы ни идти, лишь бы шагать к чему-то новому, манящему.