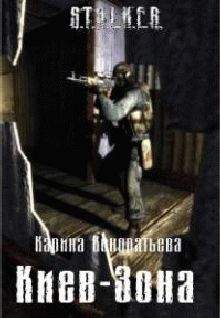Юрий Щекочихин - Рабы ГБ
Потом была война, была долгая тяжелая служба. Где бы я ни был, меня не оставляла горькая мысль, что же за такая жестокая, присущая временам инквизиции, несправедливость свалилась на нашу семью в 1938 году.
Мой отец был честный, добросовестный, справедливый человек. Любил трудиться, любил жизнь, любил свою семью. Это доброе с одной стороны и подлое, жестокое с другой теснилось в моей голове.
Постановление особой тройки НКВД в отношении отца было вынесено 11 марта 1938 года, а 24 марта 1938 года его расстреляли. Это мне сказали: отправили на этап... Время торопило. Нужно было разоблачать очередных врагов народа, получать звания, должности, ордена. Трупы где-то закапывали, но где?
Сейчас я уже старый, больной человек. Мне, как никогда раньше, хочется прикоснуться руками, телом к той земле, где лежат кости отца".
Таких писем у меня много - от тех, чьих отцов и матерей уводили навсегда, навечно, так что даже и фотографий не оставалось. И от тех, кто своей детской памятью помнит то, о чем стали забывать мы, уже повзрослевшие.
ОДИНОКИЙ ГОЛОС В ХОРЕ
Иваново, 1942 год
"Ваши публикации разбередили мне душу. Они подтолкнули меня к откровению, к покаянию, если хотите. То, что вы сейчас прочтете, я даже никому не рассказывал. Может быть, это письмо поможет мне избавиться от ощущения вины перед людьми, по отношению к которым я совершал, как осознал позднее, подлость.
Шел 1942 год, а мне - семнадцатый. Был я в ту пору секретарем комсомольской организации ивановской школы No 51.
Как-то меня вызвали в райком комсомола. Секретарь Сталинского райкома сидел в своем кабинете в обществе какой-то средних лет женщины, одетой в строгий костюм. Секретарь немного поговорил со мной о текущих комсомольских делах, из-за которых, как я понял, не стоило вызывать в райком, потом буркнул: "Вот тут с тобой поговорить хотят" - и вышел, оставив нас вдвоем.
Женщина, скупо улыбнувшись краем рта, представилась сотрудницей органов и назвалась Анной Ивановной Марецкой. Она немного поспрашивала меня о школе, о комсомольской работе, о родителях, а потом перешла к главному. "Сейчас, сказала она, - когда идет война, у нас много врагов не только на фронте, но и в тылу, среди нас. Врагов нужно выявлять, и ты, как сознательный комсомолец, должен нам в этом помогать".
Она объяснила, в чем должна заключаться моя помощь. Я должен был подслушивать разные вражеские разговоры, выявлять людей с нездоровыми настроениями, недовольных и враждебных Советской власти. Спросила, согласен ли я. Ну, конечно же я, находясь в эйфории патриотизма, с радостью согласился: врагов, где бы они ни находились, нужно выявлять и уничтожать.
- Обо всем будешь мне докладывать письменно, - сказала она. - А подписываться будешь псевдонимом. Какой выберешь?
- Корчагин, - не задумываясь ответил я, называя любимого героя любимой книги.
Она назначила мне встречу в определенное время в доме, который все ивановцы, отмечая его архитектурную особенность, называли "подковой".
И я приступил к "работе", т. е. стал стукачом.
Слушал разговоры людей в очередях за продуктами, в школе и везде, где придется. То, что мне казалось крамольным, записывал. А потом составлял донесение и бежал на конспиративную квартиру.
На квартире меня встречала пожилая женщина и предлагала чай с пирожками. Пышные, вкусные пирожки мне, вечно голодному, казались чудом, и я мигом сметал их с тарелки. Марецкая всегда появлялась чуть позже. Она бегло просматривала мой донос, задавала несколько незначительных вопросов, уточняла кое-какие обстоятельства и прятала его в сумочку... Мне казалось тогда, что донесения мои ее мало интересуют.
Как-то она пришла позднее, чем обычно. Сняв пальто, оказалась в военной гимнастерке с "кубарями" в петлицах. На этот раз мы разговаривали дольше обычного. Марецкая рассказала несколько историй о разоблачении органами врагов народа, шпионов и диверсантов. Потом вынула из сумочки и показала пистолет. Я, завороженный, смотрел и на "кубари", и на пистолет, который она, вынув обойму, дала мне подержать. В этот момент я почувствовал себя причастным к органам и мысленно поклялся выполнять все, что мне только ни поручат.
Потом Марецкая спросила, знаю ли я ученицу нашей школы по фамилии Гаек. Я ответил утвердительно: Зойка училась в соседнем классе, имела две длинные косы и бойкий характер.
- А отца ее знаешь?
Нет, отца Зои, инженера одного из ивановских заводов, я не знал.
- Нас очень интересует инженер Гаек, - сказала Анна Ивановна. - Ты постарайся с ним познакомиться.
Я понял, что неспроста органы заинтересовались инженером, значит, он если не скрытый враг, то уж точно - неблагонадежный человек.
И - начал действовать, через Зою, конечно. Она сначала усмехалась и презрительно фыркала, не принимая моего внезапно вспыхнувшего желания поухаживать за ней. Потом помягчела - парень я был видный. Через некоторое время я, пользуясь гостеприимством семьи Гаек, уже сидел с ними за вечерним чаем.
Инженер Гаек, то ли немец, то ли еврей, жизнерадостный, энергичный человек, много говорил о политике, о войне, о работе, очень неодобрительно отзывался о существующих порядках: высказывал сомнения в достоверности сводок Информбюро, критически говорил о правительстве и некоторых конкретных личностях в нем.
Нет, я не давился за столом инженера куском хлеба, потому что видел в нем врага, а в сознании своем отделял отца от дочери. Я с аппетитом жрал, слушал, мотал на ус, а потом, потискав на прощание Зойку в коридоре, бежал писать свой донос. Надо ли говорить, что Марецкая к этим моим "материалам" относилась с большим интересом: расспрашивала о подробностях, уточняла то, что казалось ей важным.
Позже меня вызвали в НКВД. Произошло это в день моей отправки на фронт, когда с мешком за плечами я сидел в одной из комнат Сталинского военкомата вместе с другими призывниками.
В НКВД мне дали прочитать "материалы", составленные на инженера Гаек. Я читал сухие казенные строчки, узнавая кое-где свои выражения. Читал с чувством исполненного долга, с удовлетворением хорошо выполненной работы...
О судьбе инженера я узнал, когда побывал дома после второго моего ранения: его арестовали вскоре после моего отъезда, а семью, включая и Зою, куда-то сослали...
И еще одна встреча с органами.
1949 год. Я после окончания училища в чине лейтенанта-танкиста служил в Германии. В это время в каждом полку был представитель особого отдела - или "особняк", как мы их называли. Особисты находились в привилегированном по отношению к другим офицерам положении: жили в Германии с семьями, что другим не разрешалось, имели шикарные квартиры и отдельные рабочие кабинеты. Вся их работа была окружена атмосферой таинственности.
Однажды меня вызвали к нашему Особисту, лейтенанту Корзухину, и между нами состоялся вот такой диалог.
- Ну как, понравились вам наши солдаты? - спросил он. "Что значит понравились? - подумал я. - Они что, девушки, что ли?" - и ответил:
- Солдаты как солдаты... А что вас интересует?
- Ну, как у них настроение, какие разговоры ведут?
- Разговоры обыкновенные: все насчет баб и как пожрать или выпить.
- Ну, это понятно... А других разговоров не замечали?
- Каких - других? - начал злиться я: спрашивает, сам не зная о чем.
- Ну... - снова занукал Особист, - разговоры насчет власти, существующих порядков... - и уже определеннее: - Антисоветчины не замечали?
К тому времени я уже был не семнадцатилетним пареньком, многое понял и деятельность корзухиных никаких симпатий у меня не вызывала.
- Нет, не замечал, - отрезал я.
- Это хорошо, - протянул Корзухин с ноткой некоторого разочарования. Но если услышите такие разговоры, сразу мне сообщайте.
- О чем сообщать-то?
- О настроениях, о разговорах такого толка, о чем мы с вами сейчас толкуем, - раздраженно сказал Особист. - Вы что, не поняли?
- Мне солдат военному делу учить надо, а не подслушивать их разговоры.
- Не подслушивать, а слушать! - сердито воскликнул Корзухин. - Вы член партии?
- Кандидат...
- Вот видите, вам в партию вступать надо и по службе продвигаться... А сотрудничество с нами ценится. Так что подумайте...
Нет, на этот раз я не стал сотрудничать с органами, и напрасно ждал меня Корзухин с докладом. Больше я к нему в кабинет не заходил. Сама мысль о том, что я подслушиваю солдатские разговоры - а они мне доверяли и говорили при мне не стесняясь, - казалась мне отвратительной.
В этом случае было как будто все в порядке: я сам решил, как мне поступать.
А вот тогда, в пору юности?..
Кто мне скажет со всей определенностью, правильно ли я поступил тогда? Но пусть скажет тот, кто чувствует себя вправе бросить в меня камень...
А нас ведь было много таких. Проклятая наша жизнь сделала нас безответными винтиками: и ввинчивали нас, куда надо, и крутили, как хотели.
В. В. Власов, Иваново"