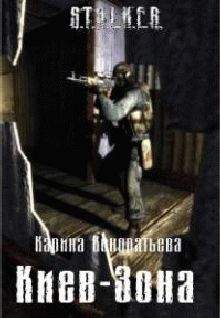Юрий Щекочихин - Рабы ГБ
Когда подопечный начал пропускать свидания, "куратор" приходил к нему домой и говорил, что если станет плохо работать, то "со своими соплеменниками будет землю копать", - тогда все евреи ждали поголовной депортации... И пытал на тему провокационных слухов о "массовых репрессиях" - что говорят об этом знакомые евреи...
Гурвич понял, что от него не отстанут.
"Пошел я тогда к своему другу-однокурснику Робику Людвиговичу и все ему рассказал (а отец его работал начальником секретариата Лаврентия Павловича). Попросил его помочь через отца избавиться от этого кошмара. Роберт засмеялся и сказал, что у него не такие отношения с отцом...
Потом, наконец, умер Сталин. И мы втроем, запершись, пили с одним непременным тостом: "Таскать вам не перетаскать..." И я всем говорил одно: хуже не будет. И как в воду глядел: летом расстреляли Берию. А меня вызвал на очередную прогулку Майсурадзе с другим чином, который представился подполковником (фамилию забыл), и строго мне выговаривают: "Вы пять лет саботажем занимаетесь. Вы давали подписку... У нас длинные руки..." А я им: "Все. Я выхожу из игры..."
Но не такая это игра, из которой можно выйти, когда захочешь.
Спустя три года после окончания университета В. Гурвич уехал работать в Дагестанский филиал АН СССР. Весной 1961 года его вызвали в КГБ Дагестана.
Капитан Ахаев спросил его о делах, самочувствии и потом спросил: "Борису Пастернаку писали?" - и протянул фотокопии писем.
- А с чего вы взяли, что это письмо написал я? Тут нет моей подписи. И почему вы вообще читаете чужие письма!
- А нам, - отвечает, - после смерти Бориса Леонидовича с возмущением это письмо передала его вдова...
Поволок меня Ахаев в кабинет к полковнику и стали мне грозить собранием по месту работы. "Давайте собрание, - говорю. - Только не ждите, что я буду молчать о ваших делишках..."
Велели мне явиться, "подумав", завтра. Наплевал. Через три недели стучит сосед: "Известный вам Ахаев вызывает вас завтра к десяти..."
Отказался...
Потом я уже переехал в Новосибирск..."
И, считает он сегодня, этим и спасся.
А вот еще одна судьба, чем-то схожая с судьбой В. Гурвича.
Правда, этого человека не оставили и по сегодняшний день.
"Что такое сексоты, я знал с малолетства. В роковые 30-е годы наша семья жила в Москве, шесть человек в двух барачных комнатах, причем спали все в одной 15-метровой комнате, а вторая - кухня - для жилья была мало пригодна. Отец и мать работали в одном наркомате и часто, думая, что мы с сестрой спим, шепотом обсуждали события прошедшего дня: мать - секретарь замнаркома, рассказывала об арестах, отец - о своих делах, и оба - о "свиданиях" с чекистами. Так я и проник в тайну чекистской агентуры. Я уверен, именно эта тайная жизнь и спасла родителей от репрессий в тридцатых, хотя и не помогла отцу выжить в ГУЛАГе, куда он попал после войны как бывший военнопленный. Но это уже другая история...
Так что службу я "унаследовал" от родителей, а вернее, в те ночные часы, когда подслушивал их разговоры о шефах с Лубянки и проникался романтизмом сексотства, хотя и не подозревал о том, что и самому придется дать расписку о неразглашении" - так начал свою исповедь москвич Н.
В июле 1941 года 16-летним пацаном он ушел добровольцем на фронт, отвоевал от звонка до звонка, потом служил в Берлине. Именно тогда, уже в конце службы, последовал вызов в СМЕРШ полка. А попался он вот на чем.
"В 1943 году во время боевой операции я потерял медаль "За отвагу", которую получил за взятие Новозыбкова. А в 1946 году Господь послал мне такую же медаль в вагоне берлинской электрички, под другим номером. По простоте душевной я попросил в мастерской перебить номер. Что мне и сделали и - сообщили куда надо. И вот при таких обстоятельствах мне пришлось дать подписку о согласии стать агентом. Представьте ситуацию: начальник СМЕРШа стращает дисциплинарным батальоном, а я "так давно не видел маму" и мне такие хорошие письма пишет первая любовь, моя одноклассница Нина".
Так вот, дал он тогда согласие, подписку и обещал остаться на сверхсрочную. Но... обманув СМЕРШ, демобилизовался в марте 1947-го. После этого начал работать в Москве в одной полувоенной организации. А в октябре приглашение зайти к оперуполномоченному, напоминание о расписке и приглашение к работе сексота. Отказался. После этого вызов в кадры: предлагают подыскать другое место работы, не связанное с допуском, так как он "не пользуется доверием". Еще предложили записать в личное дело, что его отец, бывший военнопленный, отбывает наказание в Воркуте. А он уже женился, жена ждала ребенка, жить негде и не на что. Так что пришлось согласиться.
"Но цель моего, письма рассказать вам не о себе, а моих шефах. Не буду называть их фамилии, поскольку и в Вашей редакции есть сексоты и нет гарантии от доноса. Берлинский шеф, капитан по званию, карьерист и провокатор. Он меня учил: заводи разговоры на политтемы с солдатами, сержантами, делай вид, что поддерживаешь антисоветские настроения и т. п. В Москве у меня в разные периоды были разные шефы. Были среди них и хорошие ребята. Один из них помог разобраться с делом отца и с его реабилитацией, другой - просто хороший товарищ, коллега по садоводству - интеллектуал, хороший собеседник. Он интересовался тем, кто собирался в командировку или в турпоездку за границу, спрашивал: как думаю, не убежит? Но двое с Лубянки оставили тяжелое впечатление. Один подполковник, другой - полковник, оба пьяницы и, уверен, взяточники. На одну из встреч со мной они пришли оба под хмельком. Подполковник первым делом отсчитал мне 100 рублей и попросил дать расписку на 200. Я поблагодарил и отказался, мол, не достоин такой большой чести, да и в деньгах не нуждаюсь. Оба они были почему-то сильно обозлены на писателей и вообще на интеллигенцию. "Мало дали этим ублюдкам (имелось в виду дело Синявского и Даниэля), надо бы к стенке, чтобы другим было неповадно".
Вообще о моих шефах у меня сложилось следующее впечатление: чем омерзительней был их моральный облик, тем большими коммунистами-ортодоксами они старались казаться. Ни о каких поисках шпионов не было и речи. Вся их работа была направлена на подслушивание всяких разговорчиков и анекдотов, на возможность пришить дело по ст. 70 или же по ст. 190...
Разные у меня были шефы - капитаны, майоры и даже один полковник. Но никто от моих донесений не пострадал. Более того, думаю, что многих я в какой-то степени даже реабилитировал в глазах чекистов" - так на закате жизни утешает себя Н.
"О всех высказываниях, порочащих партию, правительство и партийцев, вы должны сообщать нам при очередной явке на Лубянку."
"Он подписал подписку о неразглашении и стал "Петром": такой псевдоним дали ему в КГБ".
"Псевдоним я выбрал себе шикарный - Грановский..."
ВСЕ, МЫШЕЛОВКА ЗАХЛОПНУЛАСЬ
Я прервусь. Давайте взглянем на все с другой стороны - со стороны тех, кто оказался жертвами ЗОНЫ - самой настоящей.
Хочу привести лишь одно письмо - из сотен, полученных мною от детей узников тех сталинских лагерей.
Может быть, сквозь восприятие одного из них поймем, попытаемся понять, что означала эта подписка о "неразглашении". Итак, письмо А. Безносика из Молдавии.
"Одесса. Февраль 1938 года. Мне 12 лет. Я принес в тюрьму передачу отцу: нижнее белье, носовой платок, десяток яичек. Передачу не приняли. Я расплакался. На меня обратил внимание какой-то тюремный чин и распорядился принять белье. Яички не взяли. Через некоторое время вынесли то, что отец снял с себя в камере. Я схватил грязное, пахнущее потом и камерой белье, прижал к груди и кинулся к выходу. У родственников, которые жили в Одессе, мы прощупали и осмотрели каждую складочку в надежде найти хоть что-нибудь, открывающее завесу неизвестности, но, кроме следов крови на вороте рубашки, ничего не нашли. Этим я был потрясен: отца били.
Вторую передачу, в марте, не приняли. Сказали, отец убыл на этап. Я не понимал, что такое этап.
Жили мы в то время на станции Затишье Одесской железной дороги. Отец до ареста работал путевым обходчиком.
2 февраля, ночью, его вызвали в отдел кадров, и больше я его не видел. Спустя две недели мать, потрясенная случившимся, тяжело заболела. Ее поместили в одесскую психбольницу. Меня и старую бабушку после "убытия" отца выселили из железнодорожной будки в сарай, так как на место отца назначили другого путевого обходчика. Стоял апрель. Было холодно. В сарае мы жили с нашей коровой. Она нас кормила и обогревала. Там я готовил уроки. Учился хорошо, а поведение было плохим. Стал раздражительным, грубил учителям. Несколько раз, бросив школу, ездил на товарняке в Одессу, подолгу ходил возле тюрьмы, пока не попадал в поле зрения охраны, которая меня задерживала и передавала милиции. Эти похождения стали известны директору школы. Она вызвала меня в кабинет и предупредила: "Ты знаешь, кто твой отец, будешь плохо себя вести - и ты туда пойдешь". Я долго после этого плакал. Мне казалось, что нет в миру никого, кто желает мне добра.