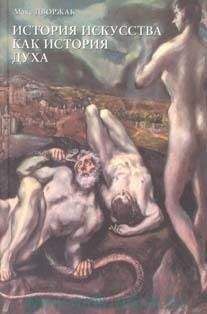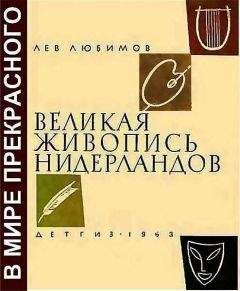Терри Дюв - Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность
Это «рассуждение», основанное преимущественно на моих домыслах, находит между тем целый ряд подтверждений в живописной и биографической реальности. Остановимся ненадолго на «Молодом человеке и девушке весной» — картине, написанной в первые месяцы 1911 года, то есть после «Куста», «Крещения» и неоконченной версии «Сонаты» и до вмешательства в ту же «Сонату» кубизма, и преподнесенной Сюзанне в качестве свадебного подарка 24 августа. Несомненно, что она тоже служит исполнением желания: желания того, чтобы молодой человек и девушка — холостяк и его девственница-се-стра — не оказались разлучены, чтобы экзогамный брак не разорвал договор или, на худой конец, чтобы он ничего не значил! Эта картина имеет значение непризнания. Написанная после помолвки Сюзанны, под угрозой ее неминуемой свадьбы, она не допускает существования зятя, подразумевая Марселя-живописца в качестве инициатора брака: если я не могу помешать замужеству сестры, пусть я буду первым, кто его хотел! В пользу такой интерпретации говорит структура «Молодого человека и девушки», и прежде всего странный круг в центре картины. В нем усматривали всевозможные символы, по большей части алхимические, и не менее часто — стеклянный шар. Шварц сравнивает его с ретортой для перегонки ртути, Каль-вези находит его прототип в «Саде наслаждений» Босха19. Я, со своей стороны, с опаской вступая в игру истоков, возвел бы этот мотив к Ван Эйку. Если картина Дюшана действительно с опережением увековечивает и вместе с тем заклинает брак, то определенное влияние на нее «Четы Арнольфини» — самого знаменитого образца свадебного жанра — не должно удивлять. Ведь, как и в «Молодом человеке и девушке», мы видим у Ван Эйка супругов, стоящих по сторонам от выпуклого зеркала, в котором отражается вся сцена, включая художника (с не известным нам спутником — вне сомнения, дамой).
Живописец является исполнителем церемонии бракосочетания, как у Ван Эйка, так и у Дюшана. Устанавливать личность неопределенной фигуры (или фигур), угадывающейся в «зеркале» (или уже в «увеличительной линзе Кодака») в центре картины, я не рискну. Но рискну предположить, что здесь или где-то еще в картине Дюшан запечатлел свое живописное посредничество в ненавистном ему браке его сестры-в-живописи с Шарлем Демаром — его соперником и alter ego. Возможно, что этот Демар, фамилию которого можно прочитать как «Д. Мар.» («Дюшан Марсель»), сам обеспечивает дополнительное отрицание этого брака, еще одно алиби, помогающее Марселю смириться с ним: если зятя зовут Д. Мар., свадьба ничего не значит и сестра не покидает семью.
Но сколько бы ни было непризнаний и воображаемых решений, наступает момент, когда Дюшан уже не может помешать принципу реальности известить его: 24 августа свадьба состоится. И в качестве последнего знака своей решимости, последнего упования Марсель преподносит Сюзанне картину20. Зыбкое равновесие защитных реакций против эдипова комплекса (направленного на Сезанна) нарушается и сразу же восстанавливается в новой форме: я имею в виду вступление Дюшана на стезю кубизма, переработку «Сонаты», садистскую месть Ивонне и Магдалене и, наконец, отстраненный покой картины «О младшей сестре».
Постепенно мы начинаем понимать, почему «кубизм» Дюшана так мало похож на кубизм; почему его «кубизм» —это алиби, под прикрытием которого он может совершить «убийство» Сезанна-отца с благословения живописного направления, которое относится к нему как к учителю; почему его чувства к кубизму настолько амбивалентны, что он хочет одновременно стать кубистом и перестать быть таковым; и почему, чтобы приобщиться к кубизму, ему обязательно нужно расколоть на части сестер.
Остается понять, почему он щадит Сюзанну. Особой загадки в этом нет, коль скоро мы принимаем гипотезу Шварца с точностью до наоборот. На предшествующих страницах я осмелился предпринять опасный опыт, как две капли воды похожий на сомнительный «психоанализ автора». И подошел к 24 августа 1911 года, к свадьбе Сюзанны — в которой, точно так же как Шварц, вижу «значимое событие, запустившее процесс раскрытия личности Дюшана и существенно ускорившее его индивидуацию»21.
Предложив вашему вниманию «предварительный рассказ» этого события, я тоже имел в виду именно это. Стоило посвятить некоторое время индивидуации «страдающего человека», чтобы лучше понять индивидуацию «творящего духа», даже если для эстетика и историка искусства важна только последняя. Но как в живописной эволюции «творящего духа», так и в жизни «страдающего человека» мы не можем присваивать процессу индивидуации и малейшей доли реальности. Он всецело относится к сфере воображаемого. Именно в воображаемом — в ряду образов, которые создает живописец, и в коррелятивном ему ряду проецирующихся на эти образы идентификаций — развивается этот процесс. Нет ничего удивительного в том, что он затрагивает мать, отца, братьев и сестер. И мой сомнительный «психоанализ» важен не тем, что тоже их затрагивает, ведь почерпнутые в произведении сведения о жизни «страдающего человека» он списывает в итоге на резонанс «творящего духа», а тем, что в конечном итоге он проливает некоторый свет на живописную судьбу художника, который изменил ход истории. Главное —не остановиться на уровне воображаемого и перейти от него к символическому. Причем это не только задача теоретика, это задача, которую решал сам Дюшан: вопреки видимости, я не прилагаю к искусству Дюшана психоанализ, а продолжаю заданный им параллелизм двух функций истины. Истина свершения определенной судьбы живописи в XX веке проходит через «Переход от девственницы к новобрачной» и через внезапное и необратимое становление-живописцем человека, который ищет себя и мучается сомнениями. Именно в этом смысле запрет инцеста — Pas sœurf"6 — приобретает для passeur, путника, смысл. Именно здесь происходит то, что я выше назвал метафорическим скачком «женщина/живопись». Это не отменяет того, что живопись для Марселя — вне сомнения, еще с детства — была метафорой женщины, а женщина — определенно, с юности — стала для него метафорой живописи. Это означает, что только с созданием «Перехода от девственницы к новобрачной» эта обратимая метафора вышла за пределы воображаемого и придала новый смысл исторической необратимости авангарда.
На уровне личного воображаемого этот процесс остается обманкой, каковая есть самое определение индивидуации. Я Дюшана переносится от отца к братьям, от братьев — к новобрачным и матери, от матери — к сестрам, чтобы в августе 1911 года оробеть перед именем Сюзанны и «решить» возобновить свое движение: от расколотых сестер к размноженным братьям-шахматистам, от грустного молодого человека — к королю и королеве, чтобы в 1912 году остановиться и вновь оробеть на пороге перехода, за которым оно распадется и исчезнет. Я уходит, и появляется я, которое уже не имеет ничего общего с какой бы то ни было индивидуацией. Становление живописцем не было становлением собой, каковое состоит не в идентификации с Сезанном или кем угодно другим и не в ее прекращении, а в том, чтобы позволить субъекту хотя бы на краткое мгновение перейти инце-стуозную черту недостающего i и метафорически превратить женщину, которую надо повесить, в женщину нарисованную— или женщину, которую надо написать, в повешенную самку.
Поэтому, чтобы заявило о себе символическое в своей функции истины, приходится дождаться Мюнхена. Но мы еще к нему не подошли и не поняли, почему за год до Мюнхена Дюшан, расколов Ивонну и Магдалену, пощадил Сюзанну. Иными словами, не выяснили, в чем состоит «доля истины» гипотезы Шварца, понятой наперекор Шварцу. И здесь теоретик должен слегка опередить Дюшана и проследить обратное действие появления символического в «Переходе»— Не сестра! — на его воображаемые идентификации в период работы над «Расколотыми Ивонной и Магдаленой» и «О младшей сестре». Дюшан щадит Сюзанну не потому, что желает или любит ее «в жизни», а потому, что некое вытесненное означающее приводит его запутанным путем воображаемых идентификаций к приближению вплотную к «закону отца», которым ему во что бы то ни стало надо пренебречь. Что же удивительного в том, что этим означающим является имя-отца —но не Дюшан (от живописи57), имя, столь изящно оставленное Марселю его братьями, а имя его исторического и живописного отца, Сезанна. Сезанн/Сюзанна — вот в чем дело! Предельная близость этих имен делает Сюзанну неприкосновенной. Она — любимая модель Марселя, но только в эскизах, набросках, предварительных этюдах, то есть только в девственной живописи. Написать Сюзанну значило бы жениться на ней и тем самым пойти на величайший риск того, что все преграды, воздвигнутые цензурой вокруг имени Сезанна путем его внедрения в семейные синтагмы, рухнут, и, когда воображаемая цепь замкнется, символическое внезапно прорвет его и призовет формирующегося живописца к соблюдению своего закона.