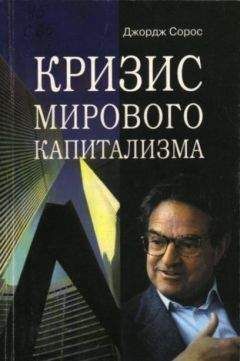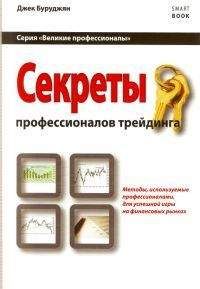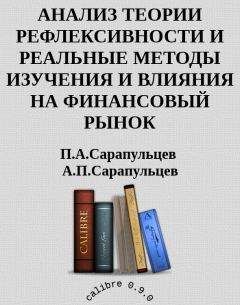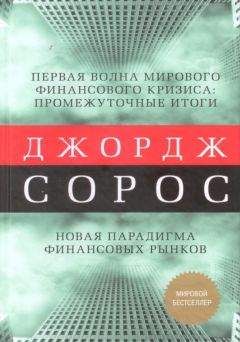Лёша Белкин - Человечище!
Сердце билось учащенно, импульсы безнадежно радостного, всепоглощающего
мироощущения ползли по телу, от мозга – к рукам и ногам, и в обратном направлении –
тоже. Было легко и совершенно непринужденно. Как будто…
Один из моих спасителей заплакал. Тот, который назвался Кранком. Отчего он вдруг
разразился безудержным плачем, не могли сказать даже его друзья. А он рыдал все
сильнее – начав с низкой, тоскливой ноты, он, исказившись лицом, все повышал свой
голос, вырывавшийся из груди, словно треск разрываемого изнутри тела, превращал его в
рев зашедшего в смертельное пике истребителя, - и горячие капли вытекали из глаз его и
катились по щекам.
Он плакал кровью, темно-бурой жидкостью, дымящейся в ночном холоде, пристающей к
коже ржавыми хлопьями. Кровью, наполнявшей собой каждую клетку наших косных туш.
И серое месиво у его ног становилось багряным. Кали-юга, трали-вали! Все мы выживем
едва ли!
И заплакали тогда все. И остатки портвейна потекли из опрокинутой бутылки. И была
эта бурая вонючая жидкость похожа на кровь, как сын похож на мать или отца. Они текли
и мешались друг с другом – кровь и портвейн, огонь непокорства – на сером снегу.
И мы все смотрели на это ширящееся пятно и плакали: наша кровь ничем не отличалась, одинаково бурая и парящая – она проплавляла в снегу дыру. Наши проспиртованные
слезы, идущие из глаз, но не из глубин гадких нестерильных тел, а прямиком из глубин
пылающих огнем душ, падали туда же и перемешивались с кровью. Глубоко внутри нас
вскрылись смертельные раны сумасшествия.
А мы плакали… и каждый плакал о своем горе, но слезы наши не брезговали родниться
на снегу, и один большой океан плачущего безумия поглощал мир, сжигая снег,
окрашивая асфальтную серость в цвета огня. В цвета страсти. В цвета смерти…
Огромный красный занавес отгородил зрительный зал от сцены. Тысячи глаз хотели
видеть, тысячи сердец желали трепетать в возбужденной пульсации…
И незримый маховик повернулся, невидимая шестерня пришла в движение, зубчатое
колесо осторожно зашевелилось – занавес пополз прочь, в темноту.
И вышел Дирижер. И дрогнули смычки в податливых пальцах, звякнули струны,
наполнив пресловутость скрипящими отзвуками боли.
Он видел меня. И зал качался словно маятник – из стороны в сторону. И шло время, которого на самом деле нет. И жил мир, который устал жить.
Старый, хромой и одноглазый актер играл свою роль в миллионный раз с обреченностью
приговоренного. И я как будто слышал слова:
Сольви ибиг розевелет, приди незваная;
Заговори бесконечную боль живых, обитающих во тьме –
Приди!
Живи, умирая ежечасно; дыши, задыхаясь беспомощно –
Будь среди нас!
Прими хлеб наш, о призванная огнем,
Очищенная водой, но вечно холодная и грязная –
Вкуси нас!
Будь нам сестрой;
Той, что видит незрячими глазами своими,
Костлявыми пальцами ищет да и находит…
Окунись в любовь нашу; люби нас!
Пурпур зовет, приди же!
О, Безымянная!
Изир суми примус йос нотур!
Вечность сродни имаго. Всего лишь чья-то стадия развития. Она конечна, она же
изначальна, ее нет.
Мир существует, пока хоть кто-то верит в него. Как только иссякает эта последняя вера –
мир разлетается тысячей никчемных кусков, пригоршней праха.
Актер играет, покуда в нем жива надежда, что тысячи глаз в зале устремлены к нему. Зал
же пуст. Как желудок после обильной рвоты.
…Она идет ровным шагом сквозь зал, и красные шторы чуть качаются в такт ее
движениям, и свечи горят неровно. Она идет за мной. Я готов. Почти готов.
Черная безмолвная бесконечность (а какой ей еще быть?) забирает меня, высасывая из
костей и плоти сладкий сок моей души. Река уносит наверх. Туда, где нет огней. Туда, где
обосновался изначальный, первичный сумрак.
Я опять здесь. Или все еще там?.. Темнота молчит словно палач. Нет! Нет! Нет!
Изнуренность серого льда, сбитый пульс перетянутых вен – кровь стоит в каждой клетке, угрожая разорвать их, стать смертельной, разрушительной силой. В мозгу бродит косой
луч радужной улыбки, маслянистая пленка надежды плавно меняет формы, меняет черты
и обличья, мимикрирует. Там, под ней, в глубинах сознания царит мрак. Здесь, наверху, пляшут искры и солнечные зайчики.
Я в сыром и неуютном подъезде. Она здесь, рядом со мной. И много, много лиц кругом, вокруг нас. Светлые, светлые-пресветлые солнечные зайчики вместо лиц. Вместо серых
пятен и пустых квадратов.
Кажется, я начинаю понимать. Иуда не бросил Христа там, на Кромке. Они были вместе.
Они были всегда. И Она была с ними. Кажется, там был и я. Может, даже прямо сейчас…
Ветер трепал окровавленные обрывки одежд, и солнце жгло искусанные слепнями
спины. Рука в руке, боль в каждом из нас. И только Она одна – не знающая боли…
Он не был богом. Просто случайный, несчастный человек. С грязным, небритым и
изнуренным лицом. С изуродованными руками и ногами. Он, конечно, не хотел умирать.
И никто не хотел. Но Она ждала…
Меня стошнило. Горький комок непереваренных грез навеки покинул меня, став лишь
вонючим пятном на бетонном полу. Внизу кто-то тоже блевал. И наверху. Сдавленный
стон, победный вопль, убитый крик… Мертворожденное чудо.
А сквозняк, гуляющий по лестницам и квартирам подъезда, ворошил, развевал мои
волосы. Вкрадчиво нашептывал что-то мне на ухо. Утешал, успокаивал. Тот же ветер
играл волосами Христа там, на Кромке. Когда на его смуглом лице были слезы. Были
слезы…
Да и на моем лице были слезы, тоже. Тугой комок рвущегося наружу нутра опустошал
меня, опустошая сердце и мозг; давил соленую воду из моих уже ничего невидящих глаз.
Я суетился и шарил руками в собственной блевотине.
Актер Уже не двигался, он застыл, повиснув на опавших марионеточных нитях. К его
ногам падали мертвые цветы. Неискренние колючие цветы ледяного лицемерия и сытого
довольства:
Приди облаченная в пурпур
Сумбур ходы чер тоз мадур!
Вечность упала багровым занавесом откуда-то сверху – и словно ниоткуда. Адские врата
гостеприимно горели пред актером, предо мной. И Она стояла у Кромки.
Время повернулось вспять. Я вышел на улицу, когда еще не было восьми, но семь часов
уже, пожалуй, умерли. Я сделал шаг в серую безысходность обледенелых улиц и
переулков. И еще шаг, и за ним еще один.
Я не считал шагов, как не считал пустых квадратов и выпадений, я игнорировал
попадавшиеся навстречу серые пятна. Я сам был Большим Серым Пятном. Его
Величеством Серостью как она есть. Потешной бесформенностью в неглиже…
Там, у отравленных вод Стикса, я когда-нибудь еще вспомню эти шаги. Бойкие, как
легкие удары молоточка. Один, другой, третий.
Отчаявшись и устав, я не смогу остановиться, не смогу присесть, не смогу насладиться
величием тишины. Не смогу поцеловать воздух растрескавшимися губами. Потому что
уже никогда не будет прежнего меня, я исчез в этот странный промежуток, блеклую
вспышку между семью и восемью часами.
Если бы я был рыбой, я лег бы на дно – в бессильно мягкий податливый ил – так, чтобы
никогда больше не видеть солнца и не чувствовать тяжести неба. Порванные мешки – мои
жабры – тихо бились бы под давлением кислорода в них… жить, просто жить…
Переполненный трамвай пролязгал мимо меня из ночи в ночь. Я поймал пустой взгляд
чьих-то включенных фар. Безнадежный взор радужных лучиков молочно-теплого счастья.
Магнитофонная пленка моей судьбы медленно отматывалась назад. Дома, река, пустота.
Сиплый кашель простуженных дворов. Чахотка усталого города, вязкая мокрота
смазливых окон. Огни и тени навстречу.
Ночь сплюнула смазанным силуэтом. Ярость моей остывшей души взвилась внутри меня
глухим собачьим рыком. Изогнувшись, я сделал выпал вперед. Я был хищником, силуэт –
жертвой. Каждый подбирал свое.
Удар – неожиданный, сходу – чтобы оглушить, сбить с толку, дезориентировать… затем
еще удар. Хищник набросился на жертву. Мои зудевшие древней космогенной энергией
кулаки принялись терзать щуплое интеллигентское тело, задавленное серой суетой,
обескровленное печальным бытом, высушенное постным экзистенциализмом
повседневности. Его бледный овал лица вмиг стал красным от выступившей крови.
Проведя серию ударов, я повалил его в грязь. Космос распирал меня и рвался наружу; ярость, перемежающаяся с безумием, шевелилась внутри меня неуемным глистом – я
видел перед глазами что-то вроде знакомой нам всем волшебной спирали: сменяющие