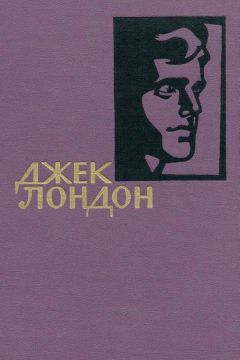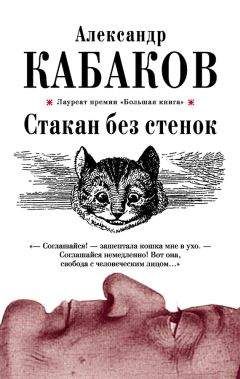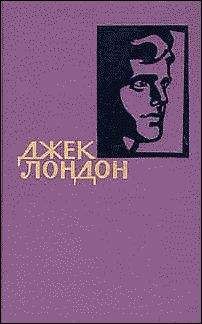Джек Лондон - Стакан с костями дьявола
Немедленно приступили к обсуждению плана, и в самый разгар его встал вопрос, кого оставлять. Вот тут-то и сказалось всеобщее умопомрачение. Каждый уверял, что его не следует оставлять, а нервные сморкания Люси и довод, что она всегда следует за своим господином и хозяином, определили и ее участь. Наши сердца с такой решимостью настроились на погоню, что мы никак не могли преодолеть некоторое отупение и сидели, устремив взгляды на эту груду, размышляя о превратностях судьбы и лелея великую надежду, что свойственно мужчинам, когда ими овладевает непреодолимое, безумное желание.
Однако решение наконец было найдено: отправляться всем гамузом. Мы энергично принялись собираться. Укрепили сани, починили и приладили упряжь и мокасины; не мытьем, так катаньем, за деньги или так, у белых и у индейцев с трудом добывали собак и каждый фунт еды для них.
Мы все были до такой степени заняты, что на следующее утро, перед отправкой, вынуждены были прицепить на двери записку с просьбой к первому прибывшему похоронить лежащее на крыше тело. До какой же степени дошло умопомешательство, если вам некогда похоронить мертвеца, погибшего у ваших дверей? Тогда вы и сами обречены на гибель.
Восемь наших саней и пять дюжин собак производили внушительное впечатление. Если обычно упряжки имеют по пять-семь собак, у нас было по двенадцать на каждые сани. Хотя нам не нужно было идти впереди на снегоступах и прокладывать путь собакам (ведь мы следовали по пробитой тропе), нам все-таки потребовалось три дня, чтобы достать тех. Яснее ясного, они торопились. Однако, обнаружив наше преследование, они против ожиданий не стали нам мешать, напротив, когда мы их достали, они не выказали ни малейшего удивления. Нам это не понравилось, и ту ночь, и много ночей подряд мы были начеку, не исключая какой-нибудь выходки с их стороны и даже нападения. Впрочем, мы были не одиноки, потому что Эйб Рендольф, вышедший на разведку к их лагерю, обнаружил аналогичные меры предосторожности.
Нам-то было известно, что они знают местонахождение сокровищ, но им было невдомек, что нам оно неизвестно. Они относились к нашему присутствию философски, поняв, что мы им не уступим; в то же время мы были уверены, что им не ускользнуть, ибо условия гонки в Арктике вынуждают идущего впереди прокладывать путь преследователю. Выглядело все так, будто два гонщика едут не торопясь в ожидании финишной стометровки, где выявится победитель. Со стороны наша гонка казалась бы нелепой, ведь команды день за днем менялись местами, чтобы выйти вперед для прокладки пути. Обе группы проделывали это в суровом молчании.
В обычных условиях подобное состязание не так уж и утомительно, но не в условиях, когда еда на вес золота и ты должен беречь каждый грамм! При этом страдали и собаки, ведь, выжимая из них все силы, мы урезали их паек. На третьей сотне миль начался отстрел тех собак, что выбывали из игры. Правда, они отнюдь не были совсем потеряны, их тут же разрубали на куски и скармливали оставшимся. Январские дни очень коротки, и при всех усилиях мы были не в состоянии покрыть более двадцати, а часто даже и десяти миль. А после тяжких трудов мы в кромешной тьме забирались в свои постели на снегу и забывались мертвым сном. Не представляю, как выдержал все предводитель той группы, привязанный к саням с незажившими ранами; мы часто слышали, как он ругался от боли. Вне всякого сомнения, он обладал железной волей. И не только переносил все тяготы, но, по мере того как затягивались его раны, срастались ребра и крепчал мороз, он начал вставать с саней и шел пешком, чтобы разогреть кровь.
Все страшно устали, выдохлись, а один из нашей партии стал отставать. Нет, не девушка, благослови ее Всевышний, она родилась и выросла на тропе, а парень из Йеля. В конце концов он так ослаб и обессилел, что не мог работать, и, едва заканчивался завтрак, мы заставляли его отправляться в путь, пока сами разбирали лагерь, увязывали сани и впрягали собак. Через пару часов мы догоняли и перегоняли его, и только спустя длительное время, после того как мы разбивали лагерь и съедали ужин, приходил он, едва живой и шатаясь от усталости. Другая партия, тоже очень уставшая, все же была в лучшем состоянии и, догадываясь о нашем самочувствии, решила извлечь из него пользу. Жестоко, конечно, но справедливо. Они увеличили время нахождения в пути, мы не отставали, но для Чарли это был предел. А они даже перестали ожидать нас для смены лидера на тропе и начали постепенно уходить. Что мы могли поделать? Мы уже потеряли так много собак, что были вынуждены бросить четверо саней и все наши запасные вещи. Каждый сам теперь нес свое ружье и личное имущество, тогда как ранее его везли в санях.
Постепенно, хотя мы ни разу не говорили и даже намека об этом не было, встал неумолимый вопрос: от чего нам отказываться: от Чарли или от сокровищ? Целых три дня мы пытались заставить его войти в ритм, пока в конце концов не поняли — он не выдержит. Хотя он все еще плелся вперед на своих снегоступах, но был невменяем — смеялся, кричал и бубнил что-то про своих родных, о доме, детстве. Не раз сознание на время возвращалось к нему, и тогда он понимал, сколь тонка нить его жизни, умолял пристрелить его. В последнюю его ночь партия соперников четыре часа прошла в темноте, и лишь благодаря помощи Эйба и Джона Рендольфов Чарли смог дотянуть до лагеря. Есть он был не в состоянии и заснул там же, где упал как колода; мокасины его повело от жаркого костра. Утром противники свернули лагерь на два часа раньше обычного, а нам никак не удавалось поднять Чарли. Мозг его проснулся, но не мог заставить двигаться тело. Это была не болезнь — он просто выдохся. Единственным лекарством для него был бы отдых, а мы не могли ему его предоставить. Мы бы привязали его к саням, но еще четыре собаки оказались негодны для дальнейшей дороги, и нам пришлось их пристрелить. Сани были уже нагружены, собаки пристегнуты, а мы все ждали и пытались, тщетно пытались его поднять. Наконец Старый Сол поднял голову, посмотрел в ту сторону, где светлело небо, и мы все встали. Час наступил. Хладнокровно, без чувств посмотрели мы друг другу в глаза. Лицо Люси выражало неприкрытое страдание, хотя уста молчали. Но нами владело безумие. Нам некуда было отступать. Щелк кнутаи визг собак вернули Чарли сознание, и, взглянув ему в лицо, мы увидели, что и он все понял. Взгляд его был жалок и беспомощен. Таким бывает взгляд раненого оленя, так смотрит умирающий тюлень. Я все еще слышу его рыдания: «Мод! Мод!» — когда он отвернулся от нас. Одержимые безумием, мы бросили его, и не стоит удивляться тому, что боги покинули нас, покинувших своего товарища.
Мы встали на тропу в молчании. Первой его нарушила Люси, она бросилась к Мельмуту Киду, умоляя его вполголоса о чем-то. Неохотно он позволил ей повернуть назад. Несколько минут спустя она присоединилась к нам, но кобура на ее бедре была пуста. Через какое-то мгновение прозвучал одинокий выстрел, и мы знали, что Чарли навсегда избавился от адских тягот стоянок и снежной тропы.
А соперники, желая окончательно утвердить свое превосходство, шли до поздней ночи, и нам не удалось их догнать. К концу следующего дня повторилось то же самое; только к вечеру третьего дня добрались мы до их лагеря. Но, как и прежде, они не выказали никакого удивления, хотя внимательно оглядели нас и заметили отсутствие Чарли. Мы со стыдом восприняли это, но ни единым словом ни один из нас не выказал подлинных своих чувств. Изо дня в день, сталкиваясь лицом к лицу с жестокими испытаниями, мы подвергались пытке. Как ни был тяжел наш труд, тяжелее было сопротивляться всепоглощающему желанию отдохнуть. О, этот бесконечный, утомительный, тяжкий путь! Что бы я ни дал, лишь бы хотя бы на день перестать двигаться! С какой завистью вспоминались мне скучные и ленивые дни детства. Я даже завидовал Чарли. А из зависти вырастало желание умереть. Чаще приходила мысль разнести выстрелом череп, и чтобы настал мир и покой, которого я так жаждал. И впервые я осознал страшный смысл строк
Лонгфелло:
Тишь и покой в пучине морской,
Глубины не знают зари.
Шаг один, и все, с концом,
Всплеск и мрак... пузыри.
На протяжении этих томительных дней тяжкой работы, сопровождаемой монотонным скрипом железных полозьев и бесконечным плюханьем снегоступов, эти строки вновь и вновь прокручивались в моем сознании. Одна великая жажда, захватившая греховная страсть удерживала меня от того, чтобы вытащить револьвер. Да и я не один, все мы находились почти в состоянии бреда и точно пьяные, шатаясь и пуская пузыри, брели вперед. Все, кроме Мельмута Кида и Люси, даже сейчас их стойкость кажется мне сверхчеловеческой. Они без жалоб переносили не только собственные страдания, но и в делах тянули двойную лямку — в готовке пищи, разбивке и свертывании лагеря. К тому же наши страдания усугублял дикий холод. Две недели термометр стоял за пятьдесят градусов ниже нуля; восемь дней было ниже шестидесяти, а затем ртуть упала ниже семидесяти пяти по Фаренгейту. При такой температуре наш единственный прибор замерз; отныне мы не могли определить, на сколько градусов похолодало. Лица наши стали темно-багровыми и от мороза покрылись большими струпьями, ноги от долгого хождения в снегоступах беспрестанно горели, ступни превратились в сплошные язвы. Собаки одна за другой выходили из строя. Из пяти дюжин едва ли осталось двадцать. Так не могло продолжаться вечно, но однажды утром преследуемые нами повернули в сторону от реки на небольшой приток слева. Погоня подходила к концу.