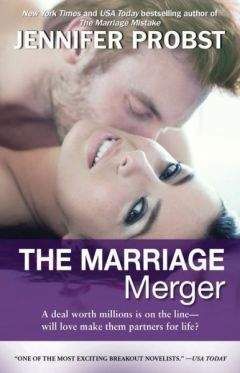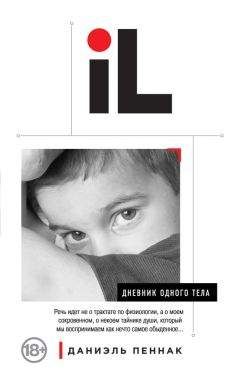Даниэль Пеннак - Дневник одного тела
21 год, 9 месяцев, 4 дня
Суббота 14 июля 1945 года
…
Именем Временного правительства, вверенными мне полномочиями…
Над чем же я плакал во время церемонии? Я не плакал со смерти Виолетт. Только от боли — в последнее время из-за раздробленного локтя. Короче говоря, я плакал, не скрываясь, в течение всей церемонии, плакал долго, без всхлипов, словно освобождаясь от слез и даже не пытаясь их утирать. Я все еще освобождался от них, когда Он стал награждать нас с Фанш. Без тени сомнения, Он сказал, что я — настоящий мужчина: вы с полным правом можете так называться! И, несмотря на то, что я был весь липкий, как бумага от мух, Он приложился ко мне в отеческом поцелуе. И, как и я, не утерся после этого. Вот он — настоящий героизм! После двухлетнего перерыва мне хочется, прежде всего, написать здесь про эти слезы. Вернее всего было бы сказать, что мое тело излило из себя все слезы, которые мой дух скопил за годы этой невообразимой бойни. Сколько нашей личности вытекает со слезами! Плача, мы опустошаемся в гораздо большей степени, чем писая, омываемся гораздо лучше, чем плавая в самом чистом озере, снимаем с души груз, скидывая его на платформу прибытия. Как только душа переходит в жидкое состояние, можно праздновать встречу с телом. Мое этой ночью, несомненно, будет спать. Думаю, я плакал от облегчения. Всё закончилось. По правде говоря, оно закончилось уже несколько месяцев назад, но для окончательного закрытия данного периода жизни мне потребовалась эта церемония. Конец. За это Он меня и наградил — за окончание моего сопротивления. Да здравствуют слезы!
* * *21 год, 11 месяцев, 7 дней
Понедельник, 17 сентября 1945 года
Я снова начал готовиться к вступительным экзаменам. И все физические ощущения, связанные с умственной работой, немедленно вернулись ко мне. Трепетная тишина, пушок книжных страниц под подушечками пальцев, поскрипывание пера по бумажным волокнам, терпкий запах клея, поблескивание чернил, тяжесть неподвижного тела, мурашки в ногах после того, как ты слишком долго сидел, скрестив ноги. Чтобы избавиться от этих мурашек, я вскакиваю и начинаю лупить по своему мешку, подпрыгивая и пританцовывая, — прямой правой, прямой левой, кросс, апперкот, серия коротких прямых (конечно, левая рука у меня не до конца разгибается, но кроссы и апперкоты у нее получаются неплохо), в голове жужжат стихи в ритме бокса, крутятся фразы многовековой давности, а ноги все приплясывают, а кулаки молотят по мешку, пот ручьем… Затем — прохлада зачерпнутой из тазика воды — ополоснись! вытрись! надень рубашку! — и снова неподвижность, снова это ощущение парения над строчками! Я как сокол-сапсан, высматривающий добычу на просторах раскрытой страницы, прячьтесь, умные мысли, все равно вам ничего не поможет: вы будете не только съедены, но переварены и усвоены, вы станете пищей для моей головы! Вот черт, куда это меня заносит? На сегодня хватит, веки отяжелели, как будто их заполнили песком, перо не слушается. Поспим. Ляжем прямо на землю и поспим.
* * *21 год, 11 месяцев, 10 дней
Четверг, 20 сентября 1945 года
Сделал перерыв и перечитал бульшую часть этого дневника. (Тетради вернул мне на днях Тижо. Они были спрятаны у него, но он «ничего не читал, честное слово!».) С удивлением и волнением нашел записи про Додо. Додо, которого я выдумал, когда жил с мамой, чтобы у меня был друг. Додо — мой вымышленный младший братик, которого я учил пи́сать и есть то, что он не любил. Додо, которого я учил выдержке, которому преподавал основы секса — подрочи мне, малыш Додо, во мне соки гуляют! Додо, которого я потихоньку настраивал против спесивой, лживой, напыщенной материнской глупости. Не могу сказать, что Додо — это я сам, нет, но он стал для меня убедительным упражнением на становление личности. Я чувствовал себя таким неживым — таким не живущим — рядом с умирающим отцом, посреди всего этого вранья, которое мать называла «жизнью» — жизнь — это не то, жизнь — это не это … Пусть Додо был выдумкой, но его хрупкое тельце (я слышал его сонное сопенье рядом с собой, когда, испугавшись чего-то ночью, он перебирался ко мне в кровать) было реальнее и явственнее той «жизни», о которой вещала ее святейшество моя мать. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне кажется, что все последние годы, слушая голос маршала Петена, я слушал свою мать. То, что он блеял по радио про жизнь и про Родину, было такой же закоснелой, вековой, трусливой, лицемерной, смехотворной ложью. Это живший во мне Додо вступил в ряды Сопротивления. Это Додо был удостоен награды. И по крайней мере, я могу быть уверен, что он не будет ею хвастаться.
* * *22 года, 3 месяца, 1 день
Пятница, 11 января 1946 года
Как приятно снова почувствовать вкус кофе после нескольких лет сплошного цикория! Черный кофе, крепкий, горький. Этот удар по вкусовым ощущениям, за которым следует довольное причмокивание. Это жжение за грудиной, которое бодрит и подстегивает, ускоряет сердцебиение и стимулирует нервные клетки. Хотя, если честно, он часто бывает противным на вкус. До войны он был вкуснее. Но почему сегодняшний кофе не такой вкусный? Может, это тоска по прошлому?
* * *22 года, 5 месяцев, 17 дней
Среда, 27 марта 1946 года
О кошмарах. За два последних года они мне почти не снились. Но с возвращением к мирной жизни они снова пошли в наступление. Я не считаю их порождением моего сознания, это всего лишь мозговые отходы. Решил приручить их посредством записей. Кладу рядом с кроватью блокнот и, как только проснусь, записываю очередной кошмар. Эта привычка имеет двойной смысл: во-первых, она позволяет оформить кошмары в рассказы, во-вторых, так они меня не пугают. Из объектов страха они превращаются в предмет моего любопытства, они как будто знают, что я поджидаю их, чтобы перенести на бумагу и — вот дураки-то! — почитают это за честь. Как раз сегодня ночью, во время одного из них, самого жуткого, я ясно подумал: не забыть записать это, когда проснусь. В данном случае «это» — оторванная рука жандарма из Розана, которая писала что-то прямо на небе.
* * *22 года, 6 месяцев, 28 дней
Среда, 8 мая 1946 года
Первая годовщина Победы. Можно подумать, что в честь праздника болезни, которые не трогали меня за эти месяцы борьбы, набросились на меня все сразу: насморк, колики, бессонница, кошмары, стеснение в груди, температура, провалы в памяти (засунул куда-то часы и бумажник, потерял адрес Фанш, конспекты по Светонию, все лабораторные работы и т. д.). Короче говоря, мое тело разгулялось не на шутку. Оно как будто решило вернуться на исходные позиции — к тому чахлому ребенку, каким я был когда-то. (Ничего, говорила Виолетт, это у тебя нервы. ) И правда, сегодня утром, когда я проснулся, нервы у меня были на пределе, нос заложен, в животе урчало, в горле застрял ком, а температура подскочила до тридцати восьми и двух. Схватить насморк под тремя одеялами и понос после превосходного ужина? Похоже, мое тело сопротивляется вновь обретенному комфорту. Что касается кома в горле, то после двух часов работы он бесследно исчез; перевод старика Плиния меня успокоил. Зато от дизентерии я валюсь с ног, мне с трудом удается лупить по своему мешку. Да здравствует война — залог здоровья? Во всяком случае, за два года, что я крутился в пляске смерти, мир нервничал вместо меня.
* * *23 года
Четверг, 10 октября 1946 года
Приехав в Париж, заглянул к Фанш. Завтра у меня собеседование в министерстве. Фанш спросила, где я собираюсь ночевать. В отеле, в четырнадцатом округе. Пока я жива, фугасик, никаких отелей, тем более в день твоего рождения! (Смотри-ка, помнит!) Она отводит меня на бульвар Рошешуар, в реквизированную квартиру, населенную полудюжиной музыкантов. Вина — залейся, еды — никакой, сплошное веселье и никакого благоразумия. Пойдем! Ну, ладно. В какой-то момент они всем кагалом снимаются с места и отправляются в кабак. Фанш знает неподалеку, на улице Оберкампф, бомбоубежище, переделанное недавно в отличный погребок. Ну, пошли же! Я колеблюсь. Я устал. Тело ноет после поезда. И завтрашнюю встречу никак нельзя пропустить. Если я ее сорву, мне останется только вернуться к себе в конуру. Нет, спасибо, я лягу спать. Фанш показывает мне комнату, кровать, вот здесь. Хочешь принять ванну? Ванну? Настоящую? В настоящей ванне? Неужто такое возможно? В ванне я собираю по частям тело, совершенно развалившееся за семнадцатичасовое путешествие по железной дороге. После чего немедленно засыпаю, голый и теплый. Просыпаюсь среди ночи. Кто-то лезет ко мне под одеяло. Чье-то тело, такое же голое и теплое, как мое, пухлое, самое что ни на есть женское, три слова: чшшшш, не дергайся, я сама, после чего на меня набрасываются, и вот уже мой член раскрывается у нее во рту, принимая правильные, вполне достойные очертания, а руки тем временем ласкают мой живот, поднимаются выше, к груди, очерчивают контур плеч, спускаются вниз по рукам, по бедрам, оглаживают меня, точно руки гончара, хватают за ягодицы, те доверчиво укладываются в них, а полные мягкие губы и нежный язык все работают, работают, о, еще, еще, пожалуйста, но я чувствую, как неотвратимо поднимается волна, как втягивается живот, не надо, подожди, держись, держись, парень, не губи эту вечность, но как удержать извержение вулкана, за что ты его удержишь, можешь сколько угодно стискивать кулаки и сжимать веки, кусать губы, вставать на дыбы под всадницей, которую тебе вовсе не хочется сбрасывать, — бесполезно, волна растет, ты лепечешь что-то, постой, тихонько, погоди, постой, не надо, ты отпихиваешь от себя ее плечи, но они так пышны, так аппетитны, что пальцы предательски задерживаются на них и начинают разминать кошачьими движениями, и я знаю, что мне дольше не выдержать, знаю и, как воспитанный юноша, вдруг думаю: только не в рот, так же нельзя, я уверен, в рот — нельзя, но она отталкивает мои руки и удерживает меня, пока я кончаю, кончаю из самых недр моего существа, удерживает у себя во рту и медленно, терпеливо, решительно пьет мою утраченную наконец девственность. А потом она подползает поближе, к самому моему уху, и я слышу ее шепот: Фанш сказала, что у тебя сегодня день рождения, я и подумала, что из меня получится неплохой подарок.