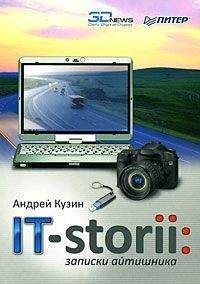Валерий Кузин - Малый срок
Через несколько дней поздно вечером в мою двухместную камеру приводят крепкого парня с матрацем в руках, одетого в робу сварщика. Парень бросил матрац на койку, откинутую от стены, как крышка сундука, и, не обращая внимания на меня, сел на ее край, потом открыл парашу (бочку), крышку, левой рукой наощупь, положил за свою спину на койку, и наклонясь над парашей, стал плакать. Слезы текли, капали в парашу, а он никак не мог успокоиться. Я выжидал в растерянности, не зная, как помочь человеку. Впервые в жизни видел такое искреннее поведение в горе. Он выплакался, нащупал крышку, закрыл парашу и сел поперек койки. Тут я попробовал заговорить с ним. Мол, разберутся, и что же так сразу расстраиваться, успокаивал я его. Он, не отвечая, задал мне вопрос. - Ты в первый раз? Отвечаю: в первый. - Вот поэтому ничего и не знаешь. Здесь не разбираются. Это конец. Живой и активный парень, он женился еще до армии, обзавелся ребенком. Во время службы подрался на танцплощадке и получил три года за хулиганство. Жена нашла другого. После отбытия срока он вернулся в Барнаул, вновь женился и имел уже двух детей. Выплата алиментов, низкая зарплата, невозможность подработать приводили его в отчаяние. Однажды по пьяный лавочке, униженный своей нищетой, проколол глаза портрета корандашем и, написав на нем: "Хрущев не дает хорошей жизни народу", положил в конверт без адреса и бросил в почтовый ящик. Бдительный почтальон отнес письмо в КГБ. С этим незапечатанным письмом начали работать графологи. Когда он написал письмо сестре, они тут же определили его адрес и арестовали прямо на работе. Следствие прошло быстро, дело было передано в суд. Когда его повели в суд, я попросил оставить негорелые спички по количеству лет в приговоре, на прогулочном дворе, в углу. Вечером на прогулке я нашел семь спичек. Позже, в Чунском лагере, он хорошо работал, и к нему приезжала жена с малолетними детьми. Веселый нравом, он располагал к себе людей и даже охрану. Иногда разрешали детей пускать в зону. Это были праздники для всех. У многих дома остались дети, и ребятишек почти не спускали на землю, передавая из рук в руки. С целыми пакетами подарков они с сожалением отбывали в дом свиданий. Для зоны в четыре тысячи человек дом свиданий был мал, и многие долго ждали своей очереди. Когда же начальство разрешило построить еще один дом, он был возведен за три дня.
Отношение к детям в лагере напомнило мне мое детство, когда мы от школьной самодеятельности после войны выступали перед тяжелобольными туберкулезом. Поставят на стол в палате, чтобы всем лежачим было видно, а когда поешь, то у больных слезы. Вспоминают детей, семью, а может быть себя в таком возрасте.
После освобождения, когда мы с Тамарой и дочкой Ладой жили в Лобне, к нам по овобождении приезжали многие знакомые, отдохнуть и обвыкнуться в новом состоянии. Тогда у нас родилась вторая дочь Маша. Отработав два года после освобождения на том же заводе БЗМП, я уже заканчивал институт в Москве а они все приезжали, знакомые и знакомые знакомых. Один из освобожденных, В.Воронов, с 15-ти лет возраста, отбывший пятнадцатилетний срок в бездетных лагерях, не мог насмотреться на малышку. Положит ее ножки на ладонь и удивляется - какие же маленькие бывают люди. О В.Воронове хочется рассказать поподробней. Мальчишкой, попав в лагерь по указу 1947 года, за карманы, набитые пшеницей, ее они с пацанами стащили с открытой железнодорожной платформы, он до тридцатилетнего возраста мыкался по лагерям и остался цельной и чистой натурой. Последние годы заключения он посвятил всепоглощающей цели - освобождению. Каких усилий стоит достижение этой цели, знает только он сам. Подчинить свою жизнь одной цели сумеет не каждый. Ему отказывает комиссия по условно-досрочному освобождению (по приговору ему оставалось отбывать еще десять лет, срок намотали за побег из лагеря, сложный побег). Это тяжелый удар, но он его пережил и опять терпел "жизнь без нарушений". Через несколько лет он снова попадает под комиссию. Его рассказ о том, как она проходила - только воспоминание о ней, вызывали у него дрожь. Стоял он перед комиссией с фуражкой-сталинкой, зажатой в правый кулак. Ожидал решения. Волнуясь, взмок до такой степени от холодного пота, что после объявления решения об освобождении, даже не смог поблагодарить за такое решение, а выжал пот из фуражки и, покачиваясь вышел. В Москву он приехал с запиской к жене одного Героя Советского Союза, своего солагерника. Перед освобождением, за время, пока проходило утверждение, волосы у него отрасли, и он надеялся так и выйти. Охранники приказали постричь "под ноль", провоцируя срыв в поведении. Но "поезд уже ушел", и решение было принято. Стриженый наголо, в костюме послевоенного пошива, с ватными плечами и загнутыми лацканами, он и прибыл в Москву. Квартира его солагерника была в коврах и хрусталях. Подумал, наверное теперь все так живут? Тоска его охватила в этой квартире, и он решил навестить меня тоже по записке, хотя лично знакомы мы не были. Когда мы с ним гуляли по территори Кремля, он сказал, усмехнувшись: "Тут только два экспоната: царь-колокол и я". И правда, иностранцы и прочий люд все время старались его сфотографировать. Прожил он у нас две недели. С удовольствием готовил еду, управлялся по дому и мечтал о семейной жизни. Потом он уехал на юг, стал работать завхозом в санатории, приглашал в гости, да так мы и не собрались...
После сварщика в камеру подселили истинно-православного странствующего христианина. Его подельница (следователь меня поправлял одноделица) сидела от нас через две камеры, у надзирательской, и так как она не выносила замкнутого пространства, дверь ее камеры была всегда открыта. Мне в камере можно было читать все свободное время, а соседу молиться. Библиотека в тюрьме была хорошая и читали много, в основном русскую классику. Допросы проходили тоскливо. Когда меня вызывали, я прихватывал пачки сигарет и, садясь на свой табурет в углу кабинета у двери, раскладывал их на батарею для просушки. В камере было влажно, а батарея закрыта металлической сеткой, и сигареты отсыревали. После раскладки сигарет начиналось одно и то же - "говорил, не говорил...". Следователь Хилько иногда подходил ко мне вплотную и мечтательно говорил, сгибая руку в локте: врезал бы сейчас тебе, все бы сразу встало на место. Отвечал ему, что все уже встало на место, и его кулачные времена прошли, дай Бог, навсегда. Я, конечно, ошибался, но к рукоприкладству он не прибегал. Этот допрос был не совсем обычным. Следователь был возбужден и в конце концов не удержался и спросил надменно: знаешь, кого я сейчас допрашивал? И сует мне в лицо протокол допроса. Тут я опешил, узнав подпись Р.К. Она ведь в Ленинграде. Вот тут сидела, показал он на диван, и я вперился глазами в этот диван. Пришел Пушкарев. Он не представился, а уселся напротив Хилько и заявил, что, наверное, будет выступать в суде, и многозначительно помолчал, как бы меня предостерегая. Для меня это был пустой звук. Никогда мне не приходилось бывать в суде, я видел его только в кино, поэтому слово "выступать" ничего мне не говорило. Видимо эти мерзавцы вместе допрашивали Р.К. и были под впечатлением, которое еще не прошло. Постепенно разговор стал принимать оскорбительный оттенок. Они имели магнитофонные записи наших разговоров за длительное время. И теперь, после знакомства с Р.К. это взбудоражило их воображение. Когда Пушарев спросил, не от нее ли я приходил в трусах наизнанку (может быть, кто-то из ребят подшутил, и это попало на пленку), я вскочил и закричал: "Как вы смеете? Что вы себе позволяете? Я буду жаловаться!" - повторив слово в слово возмущенную тираду героя рассказа Вересаева, от чтения которого меня оторвал допрос. Прокурор схватил бумажки со стола и был таков.
После пустых препирательств я стал требовать очных ставок. Следователь поставил своей целью нас рассорить и зачитывал показания подельников на меня. Я не верил ни одному слову. Первая очная ставка была с Тюриным. Мы обрадовались встрече. Хотелось многое узнать друг о друге, но следователь не разрешал. Когда он строчил протокол очной ставки, мы объяснялись жестами и сошлись на том, что скорее бы эта бодяга закончилась. Отношения наши с ребятами до сих пор остались дружественными, и все ухищрения следователя не дали результата.
Вечером в камеру прямо ворвались начальник тюрьмы Хилько и Пушкарев, и налетели на соседа. Он заскочил на нары и забился в дальний угол. Сидя, крестил воздух перед собой размашистыми жестами, повторяя - изыди, нечистый! Он их всех принимал за одного нечистого. Вон, в небо спутник полетел, и никакого бога там нет, а ты все свое - бог, бог!
Затем перекинулись на его подельницу: Марфу-то, наверное, потягивал? "Изыди, нечистый!". "А у ишака знаешь какой? Во!" - и прокурор показал свой кулак. "Ведь твой бог сделал!". "Изыди, нечистый!". Махув на него рукой, они удалились. С виду все были трезвые.
Ночью мне снилась Р.К. Ворвался в память солнечный летний день, когда, стоя на коленях в мелких водах речки Барнаулки, шагая по песку, а она пятилась передо мной назад, и наоборот, я пятился, а она тихонько шла за мной. Так и двигались до самого леса, мимо белой городской тюрьмы на горе. Вода была чистейшая, и это была пара километров наслаждения и любования прекрасным. На всем пути в этой речушке я не замазался нефтью и ничем не поранился в песке. Как-то сейчас поживает Барнаулка? Лето в Барнауле жаркое, и жители города едут купаться на Обь. Длинная песчанная коса тянется вдоль реки, а между косой и берегом узкий затон, называемый "ковш". Чтобы попасть на косу, надо переправиться через ковш или заходить на нее от района пристани и топать по глубокому песку километра два. Переправа через этот ковш никогда не была организована, как и обслуживание отдыхающих. Тысячи барнаульцев, преодолев водную преграду, растекались по косе и купались с внешней ее стороны в Оби или здесь же в затоне. В один роковой воскресный день жара была на редкость. Паром переправы это деревянный настил с поручнями из бревен, на четырех стальных открытых понтонах. Вот этот паром, когда на него набивается человек двести, тянет обыкновенная двухвесельная лодочка. Конечно он движется по-черепшьи, и толпы людей по берегам ожидают швартовки. С одной сторону на косу, с другой - для возвращения в город. Ширина этого затона-ковша метров сорок. Большой наплыв людей и долгое ожидание переправы, видимо, было причиной решения капитана катера, стоящего здесь же, в затоне, помочь ускорению переправы. Когда паром, перегруженный людьми, был ровно посредине, а, к несчастью, один из понтонов был подтоплен и сам паром имел небольшой крен на тот угол, капитан развернул свой катер и носом стал толкать паром в приподнятый угол, направляя его к берегу. Угол поднялся, подтопленный понтон окончательно - уже сверху - хлебнул воды, паром принял вертикальное положение и тут же ушел под воду. Люди с вертикально вставшего настила посыпались в воду на глазах толп людей с двух берегов "ковша". Общий вопль, и люди беспомощно заметались по берегу, глядя на месиво поредине затона. Хватали все наличные лодки и скорее гребли к месту аварии. Те, кто под грудой тел был загнан под воду, не мог вынырнуть. Хватая и топя друг друга, месиво начало рассредотачиваться, выплывая на оба берега. Крик был сплошной. Люди искали своих, перекрикиваясь с берега на берег, надясь увидеть там близких спасенными. Отдыхающие замерли, потрясенные неожиданной развязкой, только ребятишки опять пытались вернуться к игре, но на них шикали и хватали на руки, прижимая к себе. Я уже стоял в воде у берега и вся наша компания спортсменов смотрела на выплывающих из этого месива. И вот, на счастье, видим Изу - нашу лучшею прыгунью акробатку. Ее красивый закрытый купальник стал совсем открытым. Все сорвали, голая, но добралась. Хватаются, говорит, жутко - еле отбилась. Девчата прикрыли ее платьями и, дрожащую от перевозбуждения, уложили на песок.