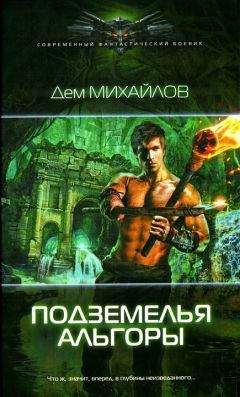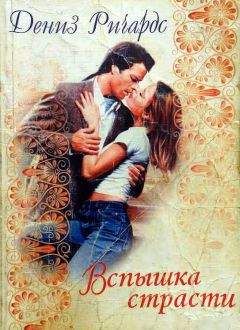Кит Ричардс - Жизнь
Теперь я понимаю — то, что нам давали, было ошметками благородной традиции художественного образования как оно существовало в довоенный период: гравюра, литография, разложение света по спектру — все это добро, выброшенное на рекламу джина Gilbey’s. Было очень интересно и, поскольку я и раньше любил рисовать, мне это нравилось, я учился каким-то новым вещам. Еще не было осознание что на самом деле из тебя штампуют так называемого дизайнера-графика, какого-нибудь наклейщика переводных буковок — все это было в далекой перспективе. Традиции изящных искусств у нас поддерживали перегоревшие идеалист вроде преподавателя натурного класса мистера Стоуна, когда-то учившегося в самой Королевской академии. Каждый раз во время перерыва на обед он опрокидывал несколько пинт «Гиннесса» в кабаке Black Horse и приходил в класс с большим опозданием и под градусом, зимой и летом в сандалиях на босу ногу. Вообще натурные занятия часто напоминали цирк. Какая-нибудь милая местная пожилая леди солидных габаритов без одежды — у-у-у, ого, сиськи! — и воздух, пропитанный пивным выхлопом, и еще рядом покачивающийся учитель, который держится за твой табурет. В подражание высокому искусству и авангарду, на который равнялись педагоги, директор придумал сделать общий школьный снимок, где нас расставили как фигуры в геометрическом саду из знаменитой сцены «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене — верх экзистенциалистского шика и пафоса.
Распорядок там был ненапряжный. Ты отсиживал свои классы, доделывал практические задания и шел в туалет, где постоянно протекала кулуарная жизнь — народ сидел и играл на гитаре. Как раз эти посиделки и подстегнули меня упражняться с инструментом по-настоящему, и слава богу, потому что в таком возрасте все схватываешь на лету. В нашем туалете перебывала масса играющего народа. Вообще в тот период, когда рок-н-ролл по-британски набирал обороты, худкодледжи дали миру несколько достойных гитаристов. Эта среда была чем-то вроде гитарной мастерской, почти целиком на фолковом материале типа того, что играл Джек Эллиот. Поскольку у нас в колледже никто не отлавливал посторонних, Сидкап стал приютом для местной музыкальной тусовки. Сюда заглядывал сам Уизз Джонс с прической и бородкой под Иисуса. Классный фолк-гитарист, вообще классный музыкант, и, между прочим, до сих пор играет —я встречаю афиши его концертов, на них он все такой же. Только безбородый. Лично мы едва знали друг друга, но в моем представлении тогда Уизз Джонс был как... не знаю — Уиэ-э-з-з!
В смысле, этот парень уже вовсю светился на фолковой сцене, выступал в клубах — ему платили! Короче, он играл в лиге, а мы играли в каком-то туалете. По-моему, как раз у него я перенял Cocaine — не нюхалово, а песню, точнее важнейший в то время пальцевый проигрыш. Никто, кроме него, буквально никто, не умел играть этим южнокаролинским перебором. Он сам подцепил Cocaine у Джека Эллиота, но задолго до всех остальных, а Джек Эллиот подцепил его у преподобного Гэри Дэвиса в Гарлеме. Уизз Джонс был фигурой, за которой в то время следили в том числе Эрик Клэптон и Джимми Пейдж, как они говорят.
Моя репутация в туалете была заработана исполнением I’m Left, You’re Right, She’s Gone. Меня иногда доставали - я продолжал любить Элвиса, и Бадди Холли тоже, и окружающим было не понять, как я вообще могу быть студентом-художником, въезжать в джаз и блюз и еще что-то в этом находить. Рок-н-ролл, глянцевые фото, дурацкие костюмы — ходить в эту сторону определенно не рекомендовалось! Но для меня это была только музыка. Вообще тогда на все существовала своя иерархия — то было время модов против рокеров. Битники тоже четко делились на тех, кто зависал на английском варианте диксиленда (так называемом традиционном джазе), и тех, кто любил ритм-энд-блюз. Лично я спокойно перебегал на другую сторону ради Линды Пуатье, писаной красавицы, которая ходила в черном свитере, черных чулках и густо подводила глаза на манер Жюльетт Греко. Я выдерживал лошадиные дозы Акера Билка — иконы трад-джаза, — лишь бы полюбоваться, как она танцует. Была еще одна Линда — в очках, худющая, но с неотразимыми глазами, предмет моих неловких ухаживаний. Сладкий поцелуй, странное ощущение. Иногда поцелуй впечатывается в тебя намного глубже, чем все, что после. Силия — с ней я познакомился во время одного ночного бдения в клубе Кена Койлера. Девушка из Айлуорта. Мы провели вместе всю ночь, ничем таким не занимались, но в то короткое мгновение у нас была любовь. В чистом, незамутненном виде. У её семьи был отдельный дом, даже близко не мой калибр.
Я по-прежнему иногда бывал у Гаса. К этому времени, после двух или трех лет моих занятий с гитарой, он сразу говорил: «Давай, изобрази Malaguena». Я играл, он хмыкал в ответ: «Смотри-ка, освоил». А потом я начинал импровизировать, потому что Malaguena — гитарное упражнение, и он вскакивал: «Да нет, там все не так!» А я говорил: «Дед, ну да, но и так тоже можно». «Ну, приноровился уже».
На самом деле вначале у меня не было специального желания быть гитаристом. Гитара была просто средством — инструментом, который производит звуки. Но по ходу дела мне становилась все интересней сама игра, извлечение конкретных нот. Я твердо убежден: если хочешь стать гитаристом, нужно начинать с акустики и только потом переходить на электричество. Не думай, что превратишься в Таунсенда или Хендрикса просто потому, что твой инструмент умеет делать «вэу-вэу, вау-вау» и все остальные электронные фокусы. Сперва полюби эту штучку. Ложись с ней в постель. Если ты один, без девушки, прямо с ней и спи. Формы у нее как раз подходящие.
Всему, что я знаю, я выучился с пластинок. Выучился благодаря возможности воспроизвести что-то напрямую, без всей этой кошмарной принудиловки нотной записи, без тюремной решетки тактовых черт и пяти линеек. Возможность слушать записанную музыку дала свободу массе музыкантов которым так или иначе не повезло освоить музыкальную нотацию, таким как я. До 1900 года в твоем распоряжение были Моцарт, Бетховен, Бах, Шопен, канкан. С появлением грамзаписи наступила вольница. Теперь, стоило только тебе или твоему соседу обзавестись аппаратом, ты получал возможность слушать музыку, которую играли люди, а не механические устройства или симфонические оркестры. Ты реально мог слышать слова, которые они говорят, почти как будто они рядом. Что-то из этого могло быть полным хламом, но что-то было по-настоящему хорошо. Произошло освобождение музыки. Если бы не оно, единственной возможностью для людей было бы ходить в концертный зал - а многим ли это по карману? Определенно, никакая не случайность, что джаз и блюз начали завоевывать мир в тот же момент, когда начала развиваться звукозапись — ни с того ни с сего, в пределах нескольких лет. Блюз — универсальная штука, он до сих пор с нами именно поэтому. Так вот, сама его выразительность, его живая эмоция смогли дойти до людей благодаря звукозаписи. Как будто кто-то раздвинул слуховые шторы. Эта вещь была доступна — и слуху, и кошельку. Больше не было такого, что музыка ограничена рамками одной Группы людей здесь и другой группы там, и вместе им не сойтись. И разумеется, такая ситуация выводит другой, совершенно непохожий тип музыкантов — за одно поколение. Мне не нужны эти листки. Я буду играть прямо от ушей, прямо отсюда, прямо от сердца к пальцам. Никто не должен переворачивать страницы.
В Сидкапе на тебя обрушивалось море всякого - как часть этого невообразимого взрыва музыки, музыки как стиля жизни, любви ко всему американскому. Я ходил в публичную библиотеку и выискивал книги об Америке. Народ вокруг слушал фолк-музыку, другие — современный джаз, еще одни — традиционным джаз, были и те, кто тащился от всего блюзоподобного — то есть, считай, протосоул. Все эти влияния присутствовали в Сидкапе. А еще были эпохальные звуки — музыкальные скрижали, тогда услышанные в первый раз. Был Мадди. Была Smokestack Lightnin Хаулин Вулфа, был Лайтнин Хопкинс. И пластинка под названием Rhythm & Blues. Vol. 1. На ней появился Бадди Гай с вещью First Time I Met the Blues, был там и один трек Литтл Уолтера. Что Чак Берри — черный, я узнал года через два после того, как его услышал, и это определенно произошло задолго до того, как я посмотрел фильм, сподвигший многих музыкантов, — «Джаз в летний день[20]», — где он играл Super Little Sixteen. И черт знает сколько времени прошло, пока я узнал, что Джерри Ли Льюис — белый. Тогда увидеть чьи-нибудь фотографии можно было, только если их вещи попадали в американскую первую десятку. Единственные, кого я знал в лицо, были Элвис, Бадди Холли и Фэтс Домино. Но разве это имело значение? Что имело значение, так это звук. Ведь, когда я в первый раз услышал Heartbreak Hotel, у меня не засвербило внутри стать новым Элвисом Пресли. Тогда я понятия не имел, кто это такой. Дело было только в звуке, в эффекте совершенно другого типа записи. Которую, как я выяснил, сделал Сэм Филлипс, первопроходец из Sun Records. Эхо-эффект. Никаких внешних добавок. Ты чувствовал, что находишься с ними в одной комнате, что слушаешь ровно то, что происходит в студии, — без наворотов, без лака, без ничего. На меня это повлияло колоссально.