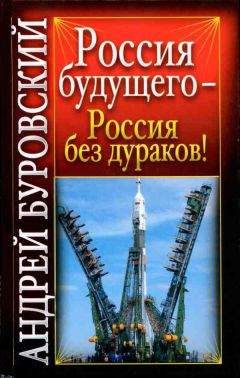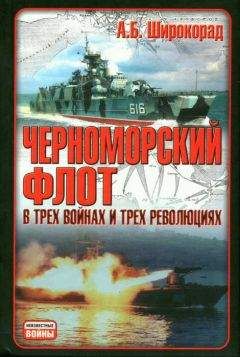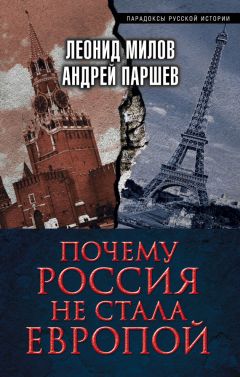Неизвестно - Яковлев А. Сумерки
Я долго копался в самом себе, искал по закоулкам памяти эти взгляды, вспоминал многочисленные сомнения и разочарования, пока меня самого не ошарашил мой же вопрос, а были ли у меня какие-то взгляды в их осмысленном виде? Именно мои, а не чужие. И пришел к ясному ответу — у меня таких взглядов не было. Вместо них в сознании удобно устроился миф, что такие взгляды есть. На самом же деле эти «взгляды» носили виртуальный характер, они пришли из мира обмана и питались властвующими химерами и охранялись страхом. Но постепенно, по каким-то неизведанным причудам мистики, эта виртуальность превращалась в странную реальность надежды и веры, которыми все мы жили. И вовсе не о смене взглядов идет речь, а о психологически сложном процессе возвращения на грешную землю реальности, которая, увы, далеко не столь сладка, как мифология.
Теперь многие стали забывать, каким было общество до Перестройки и какими были мы сами. Забыли ту затхлую атмосферу, которая убивала все живое, даже маленькие росточки чего-то нового. И как нам, сторонникам реформ, только шаг за шагом, по мере овладения новой информацией, новыми знаниями, становилось очевидным (в данном случае я говорю и о себе), что марксизм-ленинизм бесплоден, отражает интересы той части общества, которая ищет «свое счастье» в чужом кармане, а еще охотнее — в грабежах и разрушениях. Она, эта часть, до сих пор ненавидит успех других и не свое благополучие.
Уже забывается, что советский человек был лишен власти и собственности, дабы оставался насекомым, в лучшем случае — мелким грызуном. Уже забывается жизнь в «стране радости»: купил бутылку водки — радость, кусок колбасы — еще радостней. Уже забывается, что без очередей за тухлым мясом и гнилой картошкой жить не могли. Равно как и без родных стукачей и дебатов на парткомах-профкомах относительно того, с чьей женой, что и как вытворял отдельно взятый «аморал». Маршалу Жукову и режиссеру Товстоногову «жучков» и в спальню понаставили. Впрочем, членов Политбюро тоже подслушивали, равно как и генеральных секретарей и президентов. Любознательные были руководители параллельной партии — партии чекистов, жадные до знаний.
Новые национал-патриоты делают вид, что не было предательства страны в 1917 году, когда кучка террористов поставила на колени Россию, не было кровавого месива репрессий и геноцида народов, не было детей заложников, тысяч разрушенных храмов и расстрелянных священников. Ничего не было, кроме «добрейшей и мудрейшей власти», допустившей некоторые перегибы — с кем не бывает.
Надо сказать, что и в начале Перестройки еще не сложилось объемного и ясного понимания, что природный запас жизнеспособности — духовной и физической — впустую растрачен настолько, что само выживание народа стало вполне реальной проблемой. Предрекал же великий русский философ Н. Бердяев еще столетие тому назад, что «в русском народе и его интеллигенции скрыты начала самоистребления». Не хочу соглашаться с этой мыслью, но постоянно возвращаюсь к ней. Возвращаюсь потому, что понимаю: Россия сошла с магистрального пути развития и отстала на столетие. Ленинско-сталинский марксизм породил русофобскую идеологию, видевшую Россию только в качестве материала для мировой революции. Интеллект умерщвлялся упорно и безжалостно. Большевизм, вооруженный чужеродной для России концепцией общественного развития, не только разрушил страну экономически, но и многое сделал для коллективизации души, растворения ее в кровавом месиве убийств и предательств. Животворящая совесть ушла в подполье или постепенно усыхала. Умирающая совесть и есть умирающая нация.
Нам еще только предстояло понять, что компромисс с большевистским укладом жизни невозможен, более того, противоречит цели преобразований — построению свободного общества. Политическая обстановка изменилась, но больше по намерениям, чем по практическим делам. Партийный аппарат не сдавал своих цензурных и распорядительных позиций. Крутилось, как и раньше, колесо проверок, наказаний, угроз. Вокруг экономики танцевала болтовня, оторванная от реальной жизни. Догма о государственной собственности как самой эффективной продолжала господствовать. Частная собственность относилась к категории диверсий.
По причинам, которые порой трудно выловить в потоке собственных переживаний, связанных с нелегкой задачей перевести свои еще не оформившиеся по ряду проблем взгляды в практическое русло действий, я в качестве железного правила занял следующую позицию: осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Но осторожность особого рода — осторожность в отношениях с нашим специфическим социумом, который готов сначала вознести кого-то до небес, а потом разорвать его на куски. Случалось и обратное: сначала разорвать, а потом вознести.
И все же к определению «осторожности» я и сам относился с некоторым недоверием. Сюда вкладывал простую формулу: смело идти на практические дела демократического характера и одновременно утверждать, что делается это ради укрепления социализма.
Иногда спрашивают, а не противно ли было притворяться и разыгрывать из себя дурачка? Да, противно. Но, может быть, кто-то знает более эффективный путь с точки зрения конечного результата в условиях деспотии и казенного одномыслия? Утверждаю, не было такого пути в тех конкретных условиях, если стоять на позициях эволюционных преобразований, а не революционной истерии.
Меня особенно умиляют утверждения некоторых нынешних «бесстрашных» политиков и политологов, неописуемых храбрецов, обличающих нерешительность реформаторов волны 1985 года, в результате чего им в 1991 году досталась тяжелая ноша исправлять ошибки предыдущих лет и творить подлинную историю демократии. Когда те из демократов, которые считают себя таковыми по признаку власти, пытаются отбросить в сторону события, происходившие до 1991 года, забыть о таких «несущественных мелочах», как гласность и свобода слова, парламентаризм и окончание «холодной войны», десталинизация и прекращение политических репрессий, которые решительно вошли в жизнь в те самые «нерешительные времена» Реформации, они совершают не только фактическую ошибку, но и нравственную оплошность. Они пытаются как бы удалить из памяти тот факт, что мятеж 1991 года, возглавляемый верхушкой КГБ, генералитета и КПСС, был направлен именно против политики Перестройки, против реформ, а не против новой российской власти, хотя, конечно, ельцинская власть была столь же ненавистна мятежникам, как и горбачевская.
В голове бушевала метель. В этой вьюге разных противоречивых размышлений у меня постепенно брали верх собственные оценки тех или иных явлений, фактов. Они создавали базу для сравнений, внутренних диалогов, помогали разрушать разного рода стереотипы, воспитывали отвращение к догмам любого вида, включая прежде всего господствующие — марксистско-ленинские. Поражали агрессивность и нетерпимость этих догм, рассчитанных не на творчество и разум, а на слепое подчинение и поклонение.
В результате я пришел к собственному догмату, имя ему — сомнение. Нет, не отрицание, а именно сомнение, постепенно раскрепостившее меня. Знаю, что в этом нет ничего нового — ни философски, ни исторически, ни практически. Но все дело в том, что мое сомнение — это мое сомнение, а не навязанное извне. Я сам его выстрадал. Истину может уловить только сомнение, равно как и отторгнуть догму. Сам человек делает из доступной ему истины или надежду, ласкающую разум и душу, или чудовище по своему подобию, наряжая истину в лживые демагогические одежды. Созидающее сомнение бесконечно в своих проявлениях. Так случилось и со мной. У меня появилась тьма вопросов, нудных, острых, но чаще всего — по существу жизни и конкретных событий. А вот ответы (для меня самого, конечно) и формировали мое, подчеркиваю, мое мировоззрение, иными словами, логику здравого смысла, как я ее понимал.
Я с горечью начал задавать себе трудные, мучительные вопросы. Почему в моей стране массами овладели утопии, почему история не захотела найти альтернативу насилию? Почему столь грубо, цинично растоптаны идеи свободы? Почему оказались общественно приемлемыми уничтожение крестьянства, кровавые репрессии против интеллигенции, экологическое варварство, разрушение материальных и духовных символов прошлого? Почему сформировалась особая каста партийно-государственных управителей, которая паразитировала на вечных надеждах человека на лучшую жизнь в будущем? Почему человек столь слаб и беспомощен? И можно ли было избежать всего, что произошло? Почему многие из нас аплодировали бандитизму властей, верили, что, только уничтожив «врагов народа», их детей и внуков, можно обрести счастье? Почему наша страна так безнадежно отстала?
Убежден: было бы очень полезно для будущего страны, если бы нынешние правители России почаще задавали себе подобные вопросы.