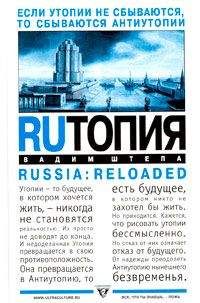Дмитрий Быков - Военный переворот (книга стихов)
не понравится - я не неволю".
Что там было еще? Не совру,
не припомню. Какие-то залпы,
пары, споры на скудном пиру...
Я не знаю, что сам показал бы,
пробегаясь по нынешним дням
С чувством нежности и отвращенья,
представляя безликим теням
Предстоящее им воплощенье.
Что я им показал бы? Бои?
Толпы беженцев? Толпы повстанцев?
Или лучшие миги свои
Тайных встреч и опять-таки танцев,
Или нищих в московском метро,
Иль вояку с куском арматуры,
Или школьников, пьющих ситро
Летним вечером в парке культуры?
Помню смутную душу свою,
Что, вселяясь в орущего кроху,
в метерлинковском детском раю
по себе выбирала эпоху,
И уверенность в бурной судьбе,
И ещё пятерых или боле,
тот век приглядевших себе
по охоте, что пуще неволи.
И поэтому, раз уж тогда
Мы, помявшись, сменили квартиру
И сказали дрожащее "Да"
Невозможному этому миру,
Я считаю, что надо и впредь,
Бесполезные слезы размазав,
выбирать и упрямо терпеть
Без побегов, обид и отказов.
Быть-не быть? Разумеется, быть,
проклиная окрестную пустошь.
Полюбить-отпустить? Полюбить,
Даже зная, что после отпустишь.
Покупать-не купить? Покупать,
все, что есть, из мошны вытрясая.
Что нам толку себя упрекать,
Между "да" или "нет" зависая?
Потому что мы молвили "да"
Всем грядущим обидам и ранам,
покидая уже навсегда
Темный зал с мельтешащим экраном,
где фигуры без лиц и имен
Полутени, получеловеки
Ждут каких-нибудь лучших времен
И, боюсь, не дождутся вовеки.
* * *
"Укрой меня, Боже, во аде моем!"
(Н.С.)
Глядишь, на свете почти не осталось мест,
Где мне хорошо; но это ещё осталось
Дворы на пути из булочной в своей подъезд,
И окон вечерних нежность, и снега талость.
Желтеют окна, и в каждом втором окне
экран мерцает, и люстры как будто те же,
И ясный закат, в котором виделись мне
Морские зыби и контуры побережий.
Здесь был наш мир: кормили местных котят,
Съезжали с горки, под зад подложив фанеру,
И этот тлеющий, красный, большой закат
С лихвой заменял Гранаду или Ривьеру.
Здесь был мой город: от детской, в три этажа,
Белеющей поликлиники - и до школы;
И в школу, и в поликлинику шел, дрожа,
А вспомню, и улыбаюсь: старею, что ли.
Направо - угол проспекта, и дом-каре,
Большой, с магазином "Вина"
и вечной пьянкой,
но эти окна! И классики во дворе
С "немой", "слепой", "золотой",
с гуталинной банкой!
Здесь ходят за хлебом, выгуливают собак,
Стирают белье, глядят, как играют дети,
готовят обед - а те, кто живет не так,
Живет не так, как следует жить на свете.
Да, этот мир, этот рай, обиход, уют,
Деревья, скверик с качелями и ракетой
И райские птицы мне слаще не запоют,
Чем эти качели, и жизни нет, кроме этой.
Свет окон, ржавчина крыш, водостоков жесть,
Дворы, помойки, кухонная вонь, простуда
И ежели после смерти хоть что-то есть,
То я бы хотел сюда, а не вон отсюда.
* * *
Эгоизм болезни: носись со мной,
неотступно бодрствуй у изголовья,
поправляй подушки, томись виной
за свое здоровье.
Эгоизм здоровья: не тронь, не тронь,
Избегай напомнить судьбой своею
Про людскую бренность, тоску и вонь:
Я и сам успею.
Эгоизм несчастных: терпи мои
вспышки гнева, исповеди по пьяни,
Оттащи за шкирку от полыньи,
Удержи на грани.
Эгоизм счастливых: уйди-уйди,
не тяни к огню ледяные руки,
У меня, глядишь, ещё впереди
не такие муки.
Дай побыть счастливым - хоть миг, хоть час,
Хоть куда укрыться от вечной дрожи,
Убежать от жизни, забыть, что нас
Ожидает то же.
О, боязнь касаться чужих вещей!
Хорошо, толпа хоть в метро проносит
Мимо грязных тряпок, живых мощей,
Что монету просят.
О боязнь заразы сквозь жар стыда:
Отойдите, нищие и калеки!
И злорадство горя: иди сюда,
заражу навеки!
Так мечусь суденышком на волне
Торжества и страха, любви и блуда,
То взываю к ближним: "Иди ко мне!",
То "Пошел отсюда!".
Как мне быть с тобой, эгоизм любви,
Как мне быть с тобой, эгоизм печали
Пара бесов, с коими визави
Я сижу ночами?
А вверху, в немыслимой высоте,
где в закатном мареве солнце тает,
презирая бездны и те, и те,
альтруизм витает.
Над моей измученной головой,
Над счастливой парой и над увечной,
Он парит - безжалостный, неживой,
Безнадежный, хладный, бесчеловечный.
* * *
Вот мать, потерявшая сына. В её комнатушке
Одни фотографии:
в десять, в двенадцать, в шестнадцать,
а умер он в двадцать,
желтуху схватив "на картошке".
Из армии целым пришел - в институте погиб.
Теперь ему было бы тридцать. Она прозябает
в научном издательстве,
вечно на грани банкротства,
весь день редактирует, на ночь берет переводы,
порой голодает, но жалоб не слышит никто.
И некому слышать. Подруг у неё не осталось,
Друзья её сына заходят все реже и реже,
У них уже дети, работы, заботы, разводы,
И им все труднее о чем-нибудь с ней говорить:
Они вспоминают о сыне расплывчато, смутно
все те же словечки, поступки...
Но дело не в этом,
Не в этих повторах.
Он смотрит со всех фотографий,
Больших или малых.
И в комнате трудно дышать.
Никто не выносит такой концентрации горя,
Такого раскаянья. Всякая мать-одиночка
На сына орет, чуть он вырастет из-под опеки.
Она это помнит и медленно сходит с ума.
О Господи, как она кается в каждом скандале,
О, как она просит прощенья за каждое слово,
за каждую вспышку... И если он все это видит,
Он в этой же муке раскаянья тянется к ней.
И это раскаянье их обоюдное, эта
взаимная, слезно-немая мольба о прощеньи
все в комнате полнит,
и в ней невозможно остаться
на час или два - потому что душе невтерпеж.
Душа не выносит такой чистоты обожанья,
Любви невозможной, безмерной,
беспримесной, чистой,
Свободной от всякой обиды, злопамятья, ссоры,
А полной одним неизбывным сознаньем вины.
Когда бы не ссора, не драки,
размолвки, обиды,
Любви бы никто из живущих на свете не вынес,
Она бы казалась предвестием вечной разлуки,
Поскольку мы все одинаково обречены.
Давайте орать друг на друга, покуда мы живы,
покуда мы грешны, покуда мы робки и лживы,
покуда мы живы, покуда мы бесимся с жиру,
Покуда мы рвемся из дома, зови не зови,
Давайте орать друг на друга, и топать ногами,
И ссориться из-за всего, и швыряться словами,
Чтоб не обезуметь, не выгореть, не задохнуться
От нашей немыслимой, невыносимой любви.
ПЕСЕНКА О МОЕЙ ЛЮБВИ
На закате меркнут дома. Мосты
И небес края.
Все стремится к смерти - и я, и ты,
И любовь моя.
И вокзальный зал, и рекламный щит
на его стене
все стремится к смерти, и все звучит
на одной волне.
В переходах плачется нищета,
Изводя, моля.
Все стремится к смерти - и тот, и та,
И любовь моя.
Ни надежд на чье-нибудь волшебство,
Ни счастливых дней
никому не светит тут ничего,
Как любви моей.
Тот мир звучит, как скрипичный класс,
на одной струне,
И девчонка ходит напротив касс
От стены к стене,
И глядит неясным, тупым глазком
Из тряпья-рванья,
И поет надорванным голоском,
Как любовь моя.
* * *
Теперь мы встречаемся в странных местах,
С дежурной улыбкой на бледных устах,
Своих узнавая по слову, по жесту,
по дрожи (во всякое время дрожим),
по тусклому взгляду, по странному месту,
по рядом сидящим безбожно чужим.
Мы все уступили - любовь и надежду,
Мы все упустили - судьбу и страну.
Теперь наш удел - это вечное "между",
зависшее "между" идущих ко дну,
С трудом приводящих в порядок одежду
пред кем хорохорюсь? Кого обману?
Пейзаж неизменен - фонарь и аптека,
но глухо, как если бы после Петра
Сюда не ступала нога человека.
Где ждали Алеко - гуляет калека,
где виделась бездна - зияет дыра.
Мы мертвые птицы двадцатого века.
Мы вольные птицы. Пора, брат, пора.
* * *
Дм. Диброву
"В грязи, во мраке, в холоде, в печали..."
(О. Бергольц)
Восторг курортного базара:
Соленья, перцы, мед, лаваш
Набегу пылкого хазара
Я уподоблю выезд наш:
Давай сюда и то, и это,
вино, орехи, бастурму
Лилово-розового цвета
Форели, куры - все возьму.
Безумный запах киндзы, брынзы,
И брызги красного вина,
И взгляд мой, полный укоризны,
в ответ на цену: ну, цена!
И остро-кислый сулугуни,
нежнейший, влажный, молодой...
весна, доверие к фортуне,
Густая синь над головой,