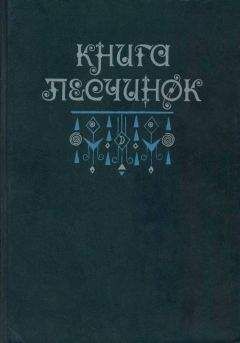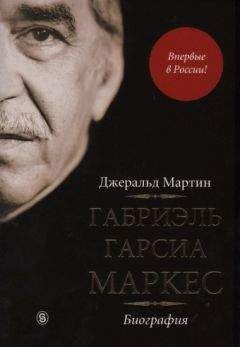Всеволод Багно - Книга песчинок: Фантастическая проза Латинской Америки (с иллюстрациями)
— Очень недолгое время: в Индии я дослужился до младшего лейтенанта.
— Ну уж в Индии у вас были, наверное, возможности для любопытных штудий?
— Вовсе нет. Война закрыла мне дорогу в Тибет, а я так хотел побывать там. Я добрался до Гампура, и на этом все кончилось; из-за нездоровья я вскоре вернулся в Англию, из Англии в тысяча восемьсот семьдесят девятом году переехал в Чили и вот, в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом приехал сюда.
— А что, в Индии вы заболели?
— Да,— снова уставляясь в угол, грустно отвечал мне бывший военный.
— Холера? — домогался я.
Но он, подперев левой рукой голову, смотрел невидящим взором поверх меня. Потом он запустил большой палец в поредевшие на затылке волосы, я понял, что этот жест предваряет признание, и молча ждал. Снаружи в темноте трещал кузнечик.
— Нет, это было нечто похуже,— начал хозяин.— Это было нечто непонятное. Сорок лет минуло с тех пор, но я никому ничего не рассказывал. Да и зачем? К чему рассказы? Никто бы не понял. А меня в лучшем случае сочли бы за помешанного. Нет, я не просто мрачный человек, я человек отчаявшийся. Моя жена скончалась восемь лет назад, ничего не зная о моем недуге, а детьми я, по счастью, не обзавелся. И вот сейчас впервые встретил человека, который может меня понять.— Я учтиво поклонился.— Как прекрасна наука, свободная наука, без академий и послушников. И все же ее порога вы еще не перешагнули. Рейхенбах — это только пролог. То, что вы услышите, покажет вам, как далеко может завести эта дорога.
Рассказчик волновался. Он вставлял английские фразы в свой преувеличенно правильный испанский. Он не мог обойтись без этих вкраплений, они ритмически оттеняли его акцент иностранца.
— В феврале тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года — вот когда растерял я все свое жизнелюбие. Вы, наверное, слышали о йогах, об этих удивительных нищих, которые тем и живут, что шпионят и творят чудеса. Путешественники столько нарассказали об этих чудесах, что не стоит повторяться. Но знаете ли вы, на чем основаны способности йогов?
— Я думаю, на умении впадать в состояние сомнамбулизма, когда им захочется. Они становятся физически нечувствительными и обретают дар ясновидения.
— Все именно так. Мне довелось видеть йогов при обстоятельствах, которые исключали какое бы то ни было мошенничество. Я даже заснял эти сцены, и пластина запечатлела все то, что я видел своими глазами. Стало быть, это не галлюцинации, ведь химические вещества не галлюцинируют... И тогда я пожелал развить в себе такие же способности. Я был отважным малым. К тому же в те времена я не мог предвидеть таких последствий. И я приступил к делу.
— Как именно?
Но он продолжал, ничего не ответив:
— А результаты оказались поразительными. Очень скоро я выучился засыпать. По прошествии двух лет я мог усилием воли двигать предметы. Однако эти занятия повергли меня в глубокую тревогу. Меня страшила собственная беззащитность перед лицом всемогущих сил, мою жизнь словно отравлял яд. В то же время меня снедало любопытство. Я уже стоял на наклонной плоскости, и мне было не удержаться. Впрочем, огромным усилием воли я заставлял себя блюсти приличия в обществе. Но мало-помалу силы, которые я сам в себе пробудил, становились все непокорнее. Длительное пребывание в нирване приводило к раздвоению личности. Я ощущал себя вне себя. Я бы даже сказал, что мое тело было подтверждением того, что я — это не я. Вот как мне казалось. Поскольку это впечатление все усиливалось, оно стало тревожить меня в момент просветления, и однажды ночью я решил посмотреть на своего двойника. Посмотреть, что же покидает меня во время экстатического сна, будучи мною.
— Неужели вам это удалось?
— Это случилось однажды вечером, даже ночью. Раздвоение произошло по обыкновению легко. Когда я пришел в себя, передо мной в углу комнаты маячила какая-то форма. И эта форма была обезьяной, мерзким животным, которое пристально на меня смотрело. С тех пор она со мной. Я все время ее вижу, я ее пленник. Куда бы она ни шла, я иду со мной, с нею. Она всегда здесь, все время смотрит на меня, но никогда к ней не подходит, никогда не шевелится, я никогда не шевелюсь...
В последней фразе я сознательно подчеркиваю путаницу в личных местоимениях, ибо так я от него услышал. Я был искренне огорчен. Этот человек действительно страдал навязчивой идеей.
— Ради бога, успокойтесь,— сказал я ему доверительным тоном, — ведь можно и обратно...
— Вовсе нет,— с горечью отвечал он,— это длится так долго, и я уже забыл, что такое целостное «я». Я знаю, что дважды два четыре, потому что знаю это на память, но я не чувствую этого. В самой простой арифметической задачке я не вижу никакого смысла, потому что я утратил представление о том, что такое количество. И со мной происходят еще более странные вещи. Например, когда я берусь одной рукой за другую, я чувствую, что она не моя, что рука принадлежит другому человеку, не мне. Иногда я вижу вещи удвоенными, оттого что глаза видят порознь...
Без сомнения, это был очень интересный случай помешательства: он не исключал совершенного владения рассудком.
— А обезьяна-то что? — спросил я, чтобы исчерпать тему.
— Она черна, как моя тень, и печальна, как человек. Описание точное, потому что сейчас я на нее смотрю. Она среднего роста, а морда у нее как у всех обезьян. И все же я чувствую, что она похожа на меня. Я говорю это в здравом уме. Это животное похоже на меня!
Мой собеседник действительно был спокоен. И тем не менее представление об обезьяньей морде так резко контрастировало с его безупречным лицевым углом, высоким лбом, прямым носом, что уже одно это было самым весомым доказательством нелепости его видений.
Он заметил мое замешательство и вскочил, словно принял окончательное решение.
— Сейчас я буду ходить по комнате, и вы увидите. Прошу вас, понаблюдайте за моей тенью.
Он прибавил света в лампе, отшвырнул в противоположную сторону столик и начал расхаживать по комнате. И вот тут я изумился: его тень не двигалась! Выше пояса она падала на стену, а ниже пояса — на деревянный пол; она напоминала гармошку, которая то удлинялась, то укорачивалась в зависимости от приближения или удаления хозяина. И хотя свет падал на него то так, то этак, на тени это никак не сказывалось.
Меня охватила тревога за собственный рассудок, и я принял решение отделаться от наваждения, а заодно, быть может, помочь моему собеседнику, проведя убедительный опыт. Я попросил у него разрешения обвести контур тени карандашом.
После того как он мне разрешил, я приклеил лист бумаги хлебным мякишем, постаравшись, чтобы он как можно плотнее прилегал к стенке и чтобы тень от лица падала на самую середину листа. Мне хотелось, как вы понимаете, установить идентичность контура лица и тени — для меня это было дело очевидное, хотя хозяин утверждал обратное,— доказать, чья она, а потом объяснить, исходя из научных данных, почему она неподвижна.
Я был бы не вполне искренен, если бы сказал, что у меня не дрожали пальцы, когда я прикасался к темному пятну, контур которого прекрасно воспроизводил профиль моего собеседника. Однако уверяю вас, когда я рисовал, рука у меня была тверда. Синим карандашом я осторожно провел линию и не отлеплял листа бумаги от стенки до тех пор, пока совершенно не убедился в том, что проведенная мною линия полностью совпадает с контуром тени, а контур в точности передает профиль моего повредившегося рассудком собеседника.
Хозяин с большим интересом следил за опытом. Когда я подошел к столу, я увидел, что его руки дрожат от сдерживаемого волнения. Сердце у меня, словно предвидя роковую развязку, бешено колотилось.
— Не смотрите,— сказал я.
— Нет уж, я посмотрю! — ответил он таким властным тоном, что мне пришлось поднести лист бумаги к свету.
Мы оба страшно побледнели. На листе перед нашим взором линия карандаша очерчивала покатый лоб, приплюснутый нос, морду животного. Обезьяна! Проклятье!
Кстати, примите к сведению, что я не умею рисовать.
VIOLA ACHERONTIA [25]
Этот странный садовник пожелал вырастить цветок смерти. Десять лет он трудился впустую, потому что заботился только о внешних формах, не принимая в расчет души растений. Все было испробовано — и прививки, и скрещивания. Часть времени ушла на выведение черной розы, но толку не было. Потом его заинтересовали страстоцветы и тюльпаны, но результат оказался жалок: два или три цветка устрашающего вида. И только Бернарден де СенПьер [26] наставил его на путь истинный, наведя на мысль о сходстве цветка с беременной женщиной. Ведь известно, что и цветок, и беременная женщина способны страстным желанием пробудить к жизни увиденное ими в грезах.
Но принять этот дерзкий постулат означало предположить в растении достаточно развитое мыслящее начало, которое может воспринимать, уточнять и запоминать — одним словом, поддаваться воздействию так, как поддаются ему высокоорганизованные существа.