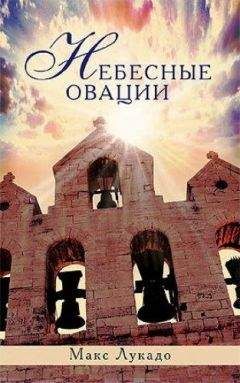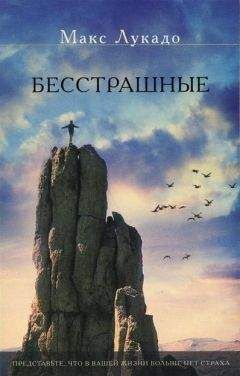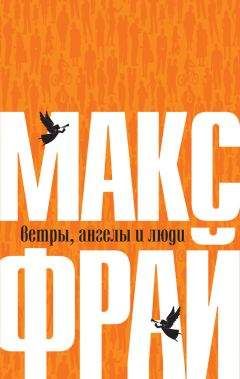А. Андреев - Москва в очерках 40-х годов XIX века
Описываемые мною дамы днем хоть и лениво, но обыкновенно занимаются своим мастерством, или, как они часто говорят, рукомеслом; делают цветы, шляпки, корсеты, чистят блонды, шьют платье, белье, под вечерок же непременно гуляют на Тверском бульваре или в Кремлевском саду. Красавица во время прогулки, желая иногда показать публике, что она степенная особа, имеет обыкновение беспрестанно поправлять свою мантилию, или тюлевой шарф, будто бы для того, чтобы скрыть от слишком вольных взглядов молодежи свои часто роскошные формы; но в самое это время она умышленно, с большим искусством открывает свою полную, белоснежную грудь. С особенным удовольствием идет она против ветра, так живописно волнующего ее широкую блузу, и при малейшем сомнении в мокроте дорожки она очень грациозно приподнимает свое платье, выказывая руло и хорошенькую ножку, обутую в башмачок из лавки Королева. Если же случайно ленточка от башмачка ее развяжется, что, впрочем, случается довольно часто, тогда она ставит свою хорошенькую ножку на зеленую лавочку, интересно завязывает ленточку, с похвальною женскою стыдливостью открывая в это время свои эластические подвязки и те любопытные части ножек, которые скрывает это глупо-строгое длинное женское платье.
Желая как можно больше походить на барышню или даму благородного общества, цветочница приказывает иногда во время своей прогулки провожать себя Василисе или лакею в треугольной шляпе, которого она нанимает для этого по часам, заставляя его следовать за собою, как можно ближе, и оказывать ей всевозможное лакейское внимание, какое обыкновенно благовоспитанный лакей оказывает своей барыне.
Но часто этот лакей ведет себя не хорошо: он всегда почти бывает порядочно кутнувший; идя за госпожой, обыкновенно грызет орехи, то слишком отстает от нее, то беспрестанно наступает ей на хвост, а иногда, когда ему очень надоест слоняться из одного конца аллеи в другой, то он преспокойно оставляет свою барыню и отдыхает на лавочке. Цветочницы, желая быть еще более интересными, имеют обыкновение хватать где попало у своих знакомых, часто даже без спроса родителей, маленьких детей, для украшения которых они постоянно держат у себя красиво вышитые шнурками казимировые ридикюли; и этих бедных малюток они таскают с собой на гуляньях, до совершенного изнеможения, стараясь, впрочем, наружно показывать нежные попечения матери, утирая батист-декосовым платочком пот с измученного их лица. Часто упрямый ребенок кричит и рвется домой, просясь к настоящей своей матери, но попечительница его, увлеченная житейскими удовольствиями, не внимает ему, задабривает его миндальными печениями, купленными в кофейной, и возвращается домой уже при поздней лунной ночи в сопровождении вежливого кавалера. Корсетницы, цветочницы и золотошвеи почти все знакомы между собою, но знакомства их непрочны и непродолжительны; часто самый ничтожный случай бывает достаточною причиною к непримиримой вражде.
Они обыкновенно ссорятся, иногда дерутся: из ревности, зависти, а часто для страшной, вечной неприязни достаточно, чтоб одна у другой знакомой заносила шелковые перчатки, зажилила носовой платок, сманила кухарку или перебила квартиру. Но недолго наслаждается жизнью прихотливая цветочница! Часто она бывает, с позволения сказать, самая необстоятельная женщина в мире; занимаясь более франтовством, чем мастерством, она допускает свой магазин до совершенного упадка, и приходит время, что ей никто уже ничего не заказывает.
Красота ее вянет с каждым днем от бестолковой жизни, исполненной треволнений; пройдет несколько лет, и она сама не узнает себя: прекрасные формы лица опустились, сверкающие глаза поблекли, она или безобразно похудеет, или потолстеет неделикатно и предосудительно распухнет; милый друг охладеет, начнет несказываться дома. Тогда цветочница обыкновенно пойдет закладывать разные вещички, фортепиано, наконец, свой любимый салоп и все это пропадет за бесценок у неумолимой процентщицы. Иногда цветочница решается еще раз обратиться к своему другу; она пишет: «милый попка! Вальдемарр! я поразстроилася сдаровьем и нахожуся на лекарствии, приезжай ка мне, а коли не можешь то пришли за мной карету, а коли карету не можешь, то пришли дених, остаюсь твоя злаполучная по гроп N.N.». Но охлажденный друг кидает записку в печку и говорит: нет, погожу! Тогда падение красавицы бывает быстрее ее возвышения; она берет опять маленькую сырую квартиру в каком-нибудь глухом переулке у попа; переезжает на хлебы к своей приятельнице, но уживается недолго; при драках и ссорах они расходятся. Наконец цветочница уничтожает свою вывеску и уже всем подругам ее делается известно, что она прогорела! Прежде полновластная хозяйка, теперь она не в силах держать при себе Василису, которая пьет, огрызается, да еще требует от нее беспрестанно чаю и жалования; она ее сгоняет, а сама переселяется в каморку на Трубу. Спустя несколько времени она – пьяная баба в лохмотьях, не посещающая хорошего общества, и обращается к неприличным званию своему поступкам…
Помещики и провинциалы
Часто, ходя по Москве, встречаешь странные экипажи, как-то: брыки, тарантасы XVII столетия, огромные полинялые кареты на высоких рессорах и возки вроде курятников; в этих-то ковчегах вваливаются в Москву иногородние помещики, обыкновенно появляющиеся в столицу по первому зимнему пути для залога и перезалога своих имений, для взноса процентов, для отдачи в ученье детей и людей, для приискания мамзелей и гувернеров, для закупки вина в деревню у Дюлу и Колосова, для окопирования себя и взрослых своих дочек и для вывоза их, как они выражаются, в большой свет. Вот причины, заставляющие их в таком множестве наводнять столицу и по которым Москву можно уподобить нескольким провинциальным городам из разных концов России, сколоченным вместе; вот причины, по которым при трескучем 30- градусном морозе Москвы часто поражают ваше внимание страшные енотовые и медвежьи шубы, горохового и светлосерого цветов, защищающие от холода наших столбовых. Тут вы встречаете на безрессорных запятках странной кареты удивительные гербовые ливреи и ветхие треугольные шляпы, надетые поперек дороги на плешивые затылки старых и грязных лакеев; в окнах кофеен видите круглые, свежие, румяные лица красавиц внутренних губерний, перед которыми природные московские щеголихи гордятся своею интересною бледностью, называя их здоровый цвет лица couleur mauvais genre; между тем как эти хорошенькие гостьи здоровы совсем не от того, что они mauvais genre, но от того, что в тихой семейной жизни, под попечительным крылом родителей пеликанов, занимающихся шестипольным хозяйством, солодовнями и винокурнями, до них не коснулось еще заразительное дыхание страстей, и детские мечты их еще не взбуровлены ни страшными грезами, ни чтением соблазнительных романов, ни слишком вольным волокитством московских европейцев, которые, говоря часто неопытной девушке пошлые глупости, выбранные из безнравственных повестей, иногда увлекают ее, сбивают с толку, приучают верить, что он и она самые несчастные страдальцы в этом мире, тогда как и тень несчастья еще не коснулась их; от того, что деревенская девушка не проводит бессонных ночей на балу и не злится без памяти, когда ей откажут в обновке или не повезут в театр, что часто делает московская европейка. Удивительное затруднение находят в Москве приезжие семейные помещики в приискании себе помесячно квартир с мебелью; хозяева обыкновенно прижимают их, и они часто платят страшные деньги в сравнении с постоянными жителями столицы; но как бы то ни было, прожив несколько дней в гостиницах Шора, Шевалдышева, Лейба, иные победнее и порасчетливее – на подворьях за Москвой- рекой, они наконец устанавливаются и, таким образом, окончив свою вояжировку, принимаются за жуировку. Делают визиты знакомым, отправляются в Ряды, на Кузнецкий мост, покупают, мотают иногда нехотя, чтоб не отставать от столичных; рыскают по конторам, толкутся в Опекунском совете, в Гражданской палате, смотрят зверей, оптические путешествия по комнатам, посещают театр, и наконец, побывав на хорах российского Благородного собрания и высмотрев там одеяние московских красавиц, они после тщательных совещаний в своей семье решаются наконец вывезти дочек.
Войдя в залу Благородного собрания, несмотря на все попечения нежных родителей и мадамов Кузнецкого моста, вы всегда узнаете провинциалок по необыкновенной пестроте наряда, по какой-то принужденности в манерах, по безобразно сшитому фраку или по странному, давно минувших дней мундиру почетного батюшки, который «толпится» около своей дочки, в то время когда она танцует контрдансы с московским студентом.
Московская девушка в Благородном собрании, в маскараде или на балу считает, что она у себя дома; ей знакомо все общество, она развязна и непринужденна, а о своем туалете заботится столько, сколько требует женское кокетство. Но прибывшее дитя Юга смотрит на вечер в Благородном собрании в Москве как на что-то чудное, высокое; об этом вечере она мечтала несколько лет, и вы не поверите, что, спускаясь по ступенькам в залу, она дрожит, колени ее подгибаются. Ей кажется, что все глаза устремлены на нее одну, что всякий угадывает ее мысли, подстерегает каждое движение. Если она мила собой, то еще получает некоторую бодрость, свойственную всем хорошеньким; но если просто незаметная блондинка, с неопределенным цветом глаз и лица, если она чувствует преимущества других нац собою, то очарование ее бывает скоро разрушено. Она видит ясно, как ловкий гвардеец спешит поймать улыбку московской красавицы, которая ему приветливо махнула веером, и как он пробираясь в тесноте, мимо приезжей из провинции, неосторожно мнет ее цветы и гирлянды, купленные иногда с такими упреками расчетливой маменькой.