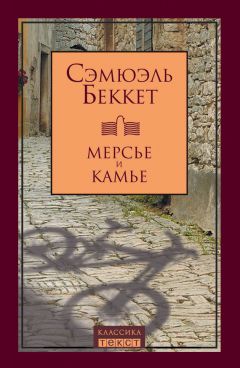Луи-Себастьен Мерсье - Картины Парижа. Том I
Река, протекающая через Париж, разрезает его на две почти равные части, но за последние несколько лет новые здания растут преимущественно в его северной половине.
Я обойду молчанием как топографическое положение города, так и внешний вид его зданий, памятников и всякого рода диковин, потому что придаю больше значения духу и характеру его жителей, чем всем перечням, которые можно найти в Этрен Миньон. Я изучаю нравственный облик города; для того же чтобы познакомиться со всем остальным — нужны только глаза.
Отмечу лишь, что парижский климат отличается крайним непостоянством и что он не столько холодный, сколько сырой. Вода Сены слегка послабляюща, а поговорка гласит, что Сена течет из бедра ангела. Кожа у здешних жителей мягкая и дряблая, а плотность атмосферы смягчает цвет лица, так что яркий румянец здесь — редкость.
Самым здоровым кварталом является предместье Сен-Жак, где живет бедный люд, а самым нездоровым — так называемый город.
Почему этот великолепный город не расположен на том месте, где стоит Тур? Там он оказался бы помимо всего еще и в самом центре королевства. Прекрасное небо Турени гораздо более подходило бы парижскому населению, а положение на берегу Луары дало бы столице неисчислимые преимущества, которых у нее сейчас нет и которые она не сможет приобрести ни трудом, ни богатством.
Окрестности Парижа разнообразны, прелестны, очаровательны; там культура усовершенствовала природу, но не задушила ее. Таких садов, аллей, прогулок не встретишь нигде, как только здесь, в непосредственной близости к городу. На четыре лье в окружности все дышит изобилием, и тот, кто здесь вкладывает свой труд в землю, не может жаловаться на судьбу.
И в то же время никто на восемь-десять лье в окружности не имеет права сделать ни единого ружейного выстрела. Королевские угодья и земли принцев присвоили себе все права на охоту. Произвольные законы, касающиеся этой области, носят печать строгости, чтобы не сказать — жестокости, представляющей резкий контраст с прочими законами королевства. Застрелить куропатку считается преступлением, которое можно искупить лишь каторгой. Смотрители охоты преследуют тех, кто охотится на охраняемых ими землях, с таким же ожесточением, с каким конная жандармерия преследует воров и убийц. Случается, что браконьеров убивают, и — о, ужас! — эти убийства остаются безнаказанными! Осмелюсь ли прибавить, что иногда смотрителей за это даже награждали, и награждал, между прочим, один принц крови, который слывет весьма человеколюбивым.
В отношении охоты{13} принцы крови жестоки, неумолимы и действуют как настоящие тираны.
5. Каменоломни
Для постройки Парижа приходилось брать камень в его окрестностях, а требовалось его не мало; и естественно поэтому, что по мере роста города его предместья стали строиться на местах прежних каменоломен, и, таким образом, оказывается, что все здания, которые мы видим на поверхности, выстроены за счет крепости почвы; этим объясняются те ужасающие впадины, которые образовались в настоящее время под домами во многих местах города. Эти дома стоят над пустотами. Не требуется особенно сильного толчка для того, чтобы все эти камни, с таким трудом извлеченные из недр на поверхность, снова очутились на прежнем месте. Восемь человек, погребенных в провале глубиною в сто пятьдесят футов, и несколько других, подобных же, но менее известных случаев заставили, наконец, полицию и правительство обратить на это внимание, и в результате во многих кварталах дома были укреплены особыми сваями, подведенными под фундаменты и придавшими последним необходимую прочность.
Все предместье Сен-Жак, улица Арфы и даже улица Турнон расположены над бывшими каменоломнями; там пришлось возвести пилястры, чтобы поддерживать груз домов. Сколько тем рождается для размышления, когда знакомишься с этим большим городом, который создан и поддерживается целым рядом противоречащих друг другу способов! Все эти башни, колокольни, своды соборов представляют собой как бы символы, говорящие глазам наблюдателя: Того, что вы видите над собой, — нет у вас под ногами.
6. Что сталось с феодальным государством?
Дворянство, жившее двести лет тому назад в своих замках, противилось переезду в город, и чего только ни делали во Франции, чтобы заставить дворян покинуть наконец башни своих замков, где они зачастую не считались с произвольными королевскими распоряжениями, так как в своих владениях пользовались вполне независимым положением. Но, с тех пор как милости самодержца стали раздаваться только в определенных присутственных местах, с тех пор как образовался единый притягательный центр, где должно было сосредоточиться все находящееся кругом, пришлось покинуть древние замки. Они превратились в развалины, а с ними вместе погибло и могущество их владельцев. Дворян ослепили великолепием, присущим королевским дворам. С целью смягчить их нравы, стали устраиваться пышные празднества; женщинам, которые до тех пор жили уединенно в заботах о домашнем хозяйстве, льстило внимание, которое стали им оказывать; их кокетство, их врожденное тщеславие были удовлетворены; они стали блистать у трона благодаря своим чарам. Их рабам пришлось сопровождать своих повелительниц в столицу; здесь женщины сделались царицами общества, законодательницами мод и развлечений и равнодушно смотрели на унижения, которым подвергались их отцы, мужья и сыновья; только бы им самим веселиться в вихре придворной жизни! Пустые затеи они превратили в дела первостепенной важности; они создали туалеты, этикет, моды, украшения, утонченные способы выражать благоволение, мелочные условности, — словом, всячески содействовали полному порабощению. А мужчинам, направляемым и руководимым ими, — возможно, даже без их ведома — ничего другого не оставалось, как протягивать алчные руки к тому, кто раздает милости и деньги. Искусство наживать состояния сделалось искусством царедворцев. Монарх извлек выгоды из этих стремлений дворянства, столь полезных для усиления его власти. Он вырвал из рук народа все золото, которое мог захватить, с тем, чтобы раздавать его своим придворным, превращенным в раболепных слуг.
Таким образом, наследственные богатства старинной знати стали превращаться в Париже в бриллианты, кружева, серебряную посуду, роскошные экипажи. Упадок земледелия стал ощутителен. Трон окружен теперь большим блеском, благоденствие же государства от этого пострадало. Но если возникновение больших городов нанесло значительный ущерб стране, — некоторые отдельные личности оказались обладателями редкостных преимуществ; они получили возможность наслаждаться всеми видами искусств, всеми удобствами, всеми благами жизни, исполнением малейших своих прихотей — словом, всем, что может украсить жизнь, смягчить посылаемые природой горести, упрочить радость, здоровье и счастье… Речь идет о немногих отдельных личностях, — народ же в целом…
7. Отчизна истинного философа
Философ чувствует себя особенно хорошо именно в больших городах (что не мешает ему их бранить), потому что здесь ему удобнее, чем где-либо, скрывать незначительность своих средств; потому что здесь ему не приходится краснеть за это; потому что он чувствует себя свободнее, затерявшись в толпе; потому что в существующем здесь смешении сословий он находит больше равенства; потому что здесь он может выбрать себе круг знакомых, избегая глупых и назойливых людей, от которых не уйдешь в маленьких местечках.
Здесь он находит к тому же больше поводов для размышлений; картинами повседневной жизни он пополняет запас своих наблюдений; разнообразие окружающего дает наиболее подходящую пищу его уму; он осудит безумие тех, кто презирает деревенские удовольствия, но в то же время сам будет участником их безумств.
В восемнадцать лет, когда я был преисполнен сил, здоровья и смелости, я очень увлекался системой Жан-Жака Руссо. Я мысленно бродил по лесам в полном одиночестве без наставника и без рабов, заботясь сам обо всем необходимом для существования. Жолуди, коренья и травы не казались мне плохой пищей; исключительный аппетит делал их все одинаково вкусными. Холода меня не пугали: мне казалось, что я презрел бы все ужасы Канады и Гренландии; жар крови заставлял меня сбрасывать с себя одеяло. Мысленно я говорил себе: там я не чувствовал бы себя заключенным в узкий круг формальностей, придирок, мелочности, хитрой и изменчивой политики. Свободно следуя своим склонностям, я подчинялся бы им, не нарушая законов, и был бы счастлив, не задевая своим счастьем ни скупости, ни гордости других людей.
Но когда первый пыл молодости стал остывать, когда я к двадцати семи годам свыкся с болезнями, с людьми, а главное — с книгами; когда у меня появились некоторые планы, радости и горести; когда я сам узнал лишения и наслаждения; когда мое воображение ослабло оттого, что я его обогатил и в то же время изнежил искусством, — тогда я нашел систему Жан-Жака Руссо менее приятной. Я понял, что гораздо удобнее приобретать хлеб за серебряную монетку, чем делать пешком несколько десятков лье, охотясь за дичью. Я почувствовал тогда благодарность и к тому, кто шьет мне платье, и к тому, кто отвозит меня в деревню, и к повару, который с избытком утоляет мой голод; я был благодарен автору театральной пьесы, заставляющей меня плакать; архитектору, построившему дом, где я живу и где зимою так тепло; я был благодарен всем, кто обучает меня тысяче незнакомых мне дотоле вещей.