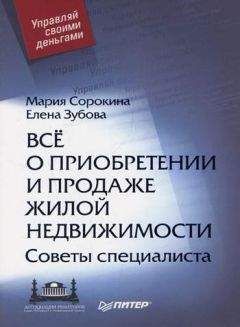Юрий Воищев - Я жду отца. Неодержанные победы (Повести)
Я как-то не помню праздников. Честное слово, не помню ни одного праздника тех лет.
А может, их и не было?!
Впрочем, я ведь совсем не жалуюсь! Не я один. Многим ребятам моего поколения выпало тяжелое детство. Но даже такое детство — все равно детство. Со всеми своими радостями и печалями. И если я скажу, что в моем детстве совсем не было светлых дней, я солгу. Были такие дни. И когда они наступали, я забывал обо всем: и о войне, и о голоде, и о холоде. Но праздников, в широком смысле слова, я не помню.
Под Новый год я встретил Назарова. Он был в потертом кожаном пальто. Оно так и скрипело, когда он переставлял костыли.
— А не холодно вам? — спросил я.
— Холодно, — сказал он. — Да ведь я редко на улице бываю. Пока меня при госпитале держат. Вроде из милости, что ли… А у вас как? Все живы — здоровы?
— Все…
— А ты как, Сергей? Как успехи?
— Да тройки…
— А ты старайся.
— И так — во всю!
— Ну, раз ты стараешься, — вот тебе. Получай… — Он вытащил из кармана — яблоко не яблоко, в общем, какой-то желтый фрукт.
— А что это?
— Неужели не пробовал никогда?
— Не-е…
— Апельсин это.
— А его едят?
— Еще как! Это одному майору посылка пришла с юга — а там апельсины. Я ему говорю: слышь, Степан Фомич, подкинь-ка парочку. А он: на какой предмет? Нужно, говорю. Он пожался, но один дал. А я все тебя ждал. Думал, зайдешь. А сегодня решил уж сам к вам пойти. И хорошо, что тебя встретил…
— Спасибо… Так пойдемте к нам.
— Знаешь, Сергей, в другой раз… Устал я сегодня. Долго хожу… Ты лучше проводи меня немного.
Мы пошли потихоньку. Когда Назаров передвигал костыли, кожаное пальто его отчаянно скрипело. И снег хрустел. И я вдруг услышал запах апельсина. Запах был невероятный. Сумасшедший запах. Это был запах праздника. Вернее, всех праздников, которых никогда не было в моей жизни.
— Ты что это? — спросил Назаров.
— Так… Праздник скоро…
— Совсем… Новый год. Сорок пятый…
Да, это был запах Нового года. Запах праздника. А праздник пах апельсином.
Маленькое солнце, которое я держу в руке, называется апельсин.
Маленькое, круглое солнце. И оно — оранжевое. И если вдавить в него пальцы — брызнет сок. Солнечный, душистый, апельсиновый. А новогодний праздник пахнет апельсином. А апельсин — солнце! Если бы я мог, я дарил бы всем, кого люблю, апельсины. Всегда бы дарил. Всю жизнь.
И дома мать сказала:
— Апельсин!
И бабка сказала:
— Апельсин!
А Николай Палыч сказал:
— Откуда?
И я крикнул:
— Назаров дал! Чтобы я съел! Один!
— Никто и не просит, — сказал Николай Палыч.
— Никто и не дает, — сказал я.
Николай Палыч дернулся и ушел.
И мать не поругала меня за грубость. И долго молчала. И вздыхала. И как бы про себя сказала, что за такой апельсин можно выменять полкачана капусты.
И выменяла.
И бабка сварила щи. И я ел щи. А в щах плавало маленькое солнце — кружок моркови. И щи пахли апельсином. А апельсина я так и не попробовал.
Говорят, есть страны, где войны никогда не было. И солнце там вовсю лупится и жарит прохожих. А мальчишки — каждый день едят апельсины.
Только я что-то в это не верю.
Сватовство шофера
Я готовлю уроки по вечерам. При электричестве. И каждый раз, поглядев на лампочку, вспоминаю коптилку. Нет, я не выбросил ее. Разве выбрасывают старых и верных друзей? Спасибо тебе, коптилка. За все. За твой слабый свет. За ласковость. За доброту. Нет, я не выбрасываю тебя. Я прощаюсь с тобой. Ведь и старые друзья умирают. Прощай, коптилка. Я не забуду тебя. Но прошу, никогда не возвращайся в мой дом. Ни в чей дом. Так нужно. И ты это должна понять.
Тихо у нас. Тепло. А на дворе — мороз. Поземка. Ветер воет — у — у. Как волк, отбившийся от стаи.
В такие вечера Николай Палыч любил говорить:
— Нам вот тепло. А в окопах?! Ну, скажем, наши ребятки — привычные. Крепкий народ. А вот немцы мерзнут. Помню, в сорок втором тоже морозы стояли, ничего себе. Так фрицы, как бревна, валялись в степи.
Николай Палыч любил поговорить о войне и о своих подвигах. Когда я слушал его рассказы, я почему-то вспоминал Назарова.
Назарову не нравились такие разговоры. Он никогда не распространялся на военные темы, словно и не воевал даже.
Он будто боялся рассказов о войне.
А Николай Палыч дышать не мог без военных воспоминаний. Меня всегда удивляло это. И только теперь я понял, в чем дело.
Командующим всей нашей армии, которого Николай Палыч возил на своем «газике», оказывается, был интендантский полковник. Так что Николай Палыч, как говорится, проехал мимо войны.
Я думал, что и сегодня, в новогоднюю ночь, он будет кормить нас своими боевыми приключениями. Но все вышло иначе.
Николай Палыч поднял стакан:
— Пью за счастье.
Мать задумчиво смотрела на темное окно. Словно ждала кого-то.
Полночь. Новый год.
— Пью за счастье. А еще, бабуся, — сказал Николай Палыч, — официально предлагаю вашей дочери расписаться со мной. У меня намерения серьезные… Семью буду строить…
— Как Надя, так и я, — сказала бабка.
— А Надя не против…
Мать быстро взглянула на Николая Палыча и вдруг уронила голову на стол и заплакала. А Николай Палыч стал гладить ее волосы и что-то быстро — быстро говорить.
Я сидел растерянный, ничего не понимая.
Мать вскочила, оделась и выбежала из дому. Николай Палыч выскочил за ней. А бабка разволновалась и велела мне ложиться спать. Так и встретили Новый год.
Скоро пришла мать. Не раздеваясь, села к столу и долго так сидела.
— К нему ходила? — строго и печально спросила бабка.
— К нему… А госпиталь закрыт. И в окнах темно… Спят, наверное… — И плача выдохнула: — Не пришел!
Свадьба
— Нет, — сказала мать. — Не пойду за него. Не хочу…
— Трудно нам, — сказала бабка. — Без мужика — ой как трудно. А у тебя — Сережа. Я помру, как жить будешь? А Николай Палыч хоть и пустобрех, а все равно мужик. И домовитый. Все в дом тащит.
— Да разве в этом дело?!
— В этом не в этом, а кто тебя с ребенком подхватит? Кому ты нужна?
И мать промолчала.
Я ушел на улицу. Мне было невесело. Даже с Сенькой я поругался. Он надулся и ушел домой. А мне домой идти совсем не хотелось.
Стемнело. Сумерки неспешными шагами вошли в город. Они были тихие и печальные. Зажглись окна в домах. Сыпался крупный снег. Люди спешили. И никому не было дела до мальчишки, одиноко стоящего на улице.
— Пойдем домой, — сказал Николай Палыч.
Я и не слышал, как он подошел.
— Пойдем, пойдем, нечего мерзнуть.
Дома он вытащил из кармана огромный бумажный пакет и протянул мне:
— Американская помощь… Конфеты, тушенка и тому подобное. Бери, бери, это тебе. Бери, говорю!
И я взял. И подумал: «А он добрый». А для меня доброта — главное. Но когда я увидел, как просияла мать, глядя на нас с Николаем Палычем, мне стало страшно тоскливо и захотелось отдать назад американскую помощь. Все отдать, лишь бы он не женился на матери.
В последний день моих каникул состоялась свадьба. Народу было немного. В основном — соседи.
Пили, шумели, кричали «горько». Мать и Николай Палыч целовались. Потом стали танцевать. И мать закружилась с Николаем Палычем.
И тут пришел Назаров. Он был пьян и неестественно весел.
— Гуляем, — сказал он. — Что ж, все правильно…
Он покачнулся и близко подошел к матери. Опять я узнал в нем того бешеного человека. Опять костыли прыгали в его руках.
— Поздравляю вас, Надя. Конечно, я калека, не пара вам, но все равно скажу — люблю я вас! А вы…
Он задохнулся, махнул рукой и ушел.
В комнате стояла тишина. Только патефонная игла, дойдя до конца пластинки, яростно шипела.
— Танцуйте! — крикнул Николай Палыч, и все опять зашумели, закружились.
Мать вышла во двор. Она стояла под звездами в белой кофточке, маленькая и одинокая. Я смотрел на нее из темных сеней, и мне хотелось обнять ее и плакать вместе с нею.
Быстро вышел Николай Палыч, набросил на плечи матери пальто и обнял ее.
— Уйди, — тихо сказала мать.
И было в ее голосе такое отчаяние, что он не сказал ни слова и ушел.
Когда мать вернулась, я не узнал ее. Она снова была веселая и беззаботная. И смеялась, танцевала, пела.
И, засыпая, я слышал ее смех.
«Я — твой отец!»
Николай Палыч пришел в школу.
— Я Сережин отец, — сказал он классной руководительнице.
Они долго ходили по коридору, и она ему что-то пела.
Мальчишки из нашего класса толкали меня:
— Твой отец?
— Нет, — злился я, — отчим.
— А — а…
Дома меня ожидала взбучка.